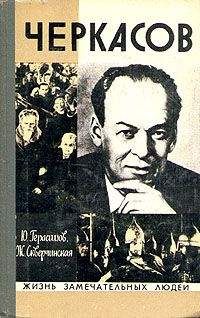А как приятно было встретиться снова со старым знакомым по мюзик-холлу — Дунаевским. Чудесную песенку написал он для Паганеля:
Жил отважный капитан,
Он объездил много стран.
И не раз он бороздил океан…
Конечно, он играл Паганеля с удовольствием, как ни говори, а ему давно хотелось сыграть хорошего человека. Если разобраться, то ведь не было еще ни разу у него по-настоящему положительной роли — все или злодеи, или непутевые какие-то.
Он же чувствовал, что может сыграть роль более значительную, может.
Вот с таким настроением он и явился год назад к режиссеру Владимиру Михайловичу Петрову, когда узнал, что тот собирается ставить по сценарию Алексея Толстого фильм «Петр I». Конечно, это было дерзко — предлагать себя на главную роль, но ему казалось, что должно получиться. Роман Толстого читал с огромным интересом и представлял себе, как бы он сыграл ту или иную сцену…
Вспоминая о первой встрече с Петровым, Черкасов разволновался, закурил.
…В кабинете Петрова все дышало историей. На стенах гравюры петровского времени, на столе старинные карты. Над ними возвышался большой астрономический глобус, который когда-то принадлежал самому Петру. В углу стоял дорожный сундук царя. Режиссер согласился на кинопробу. Результаты были неутешительные: несмотря на тщательный грим, артист был мало похож на Петра. Владимир Михайлович пошутил:
— Ряшку для этого надо иметь!
«Ряшки» у него не было. Было худое, нервное лицо, в кино этого не скроешь. Ну что ж, не вышло так не вышло. На Петра пригласили Николая Симонова. А ему режиссер вдруг предложил сыграть сына Петра — царевича Алексея. Он подумал, согласился и начал работать. Владимир Михайлович Петров так объяснял ему суть образа:
— По нашему замыслу, Алексей диаметрально противоположен Петру — и с внешней стороны, и по своему характеру. Алексей — человек безвольный, в то же время очень злой, хитрый, упорный и скрытный. Он органически враждебен петровскому делу, отца своего ненавидит и боится. Не мудрено, что вокруг него группируется боярская и церковная оппозиция. Алексей становится знаменем всех реакционеров, чающих возврата к старому.
Черкасов начал работать как одержимый. Засел за книги. Ему казалось совершенно необходимым знать о своем герое все. За историческими сочинениями пришла очередь мемуаров, исторических романов, литературы XVIII века. Он часами пропадал на Петроградской стороне, в «домике Петра», ездил в Петергоф — дышал ароматом минувшего, пока всей кожей не начал ощущать неуместность мрачной фигуры Алексея, скажем, в «Мон-плезире». И содрогался, слыша иноземное, бесовское обращение отца — «зон»…
Ему стала открываться бездна падения царского сына, причины отнюдь не личного конфликта с отцом. В какой-то момент ему показалось, что в сценарии просто не хватает материала, чтобы полностью раскрыть характер Алексея. Он начал уговаривать Петрова и Алексея Николаевича Толстого расширить текст, добавить хотя бы еще две-три сцены. Петров не соглашался, а он все уговаривал и уговаривал его, даже спорил. Ему хотелось показать отношения царевича с матерью, его детскую привязанность к отцу, показать Алексея в монастыре и вскрыть истоки его религиозного фанатизма. Все тщетно. Автор сценария и режиссер и без того вынуждены сокращать материал, отбирая для фильма наиболее существенное. Пришлось смириться. Но играть было чрезвычайно трудно. Часто нужно одной только фразой, одним жестом или движением, всего лишь поворотом головы вскрыть сложный и глубокий подтекст роли. Петров уверяет, что во второй серии будет легче играть. Там у Алексея довольно большие и, главное, последовательные сцены. Но до этого пока далеко, даже первая серия еще не закончена… На потолке и стенках купе появились тусклые отсветы вокзальных фонарей. Уже Бологое, надо поспать хоть немного — завтра на «Мосфильме» предстоит совсем нелегкий день…
Вкус к домашней, «кабинетной» работе над ролью пришел к Черкасову довольно поздно, когда он был уже маститым артистом. В тридцатые же годы у него и кабинета никакого не было. В многолюдных коммунальных квартирах снимал комнату, в которой ютился с женой и ребенком. В промозглой комнате на Басковом переулке было холодно, протекал потолок. Конечно, учить роль, работать над текстом приходилось дома. Если гастрольные поездки и съемки не съедали всего отпуска и удавалось выкроить две-три недели на отдых, Черкасов ехал к жене с дочкой в деревню под Лугой, мечтая лишь о том, чтобы лежать на траве и глядеть в небо, пить молоко и спать. Но его деятельная натура не выносила покоя. И уже на другой день после приезда он отправлялся с удочкой на рыбалку или за грибами — в лес подальше.
Обычно, увлекаясь новой ролью, Черкасов не любил рассуждать о ней и мог часами про нее не вспоминать. Она же незримо, словно сама собой, прорастала в нем, и наступал день, когда актер уже слышал голос своего героя, различал черты его лица. Но в основном образ создавался в общении с партнерами, с режиссером. Озарения приходили к Черкасову «во плоти», в пластическом выражении. На репетиции, импровизируя, он мог сыграть идею автора или режиссера разными способами, не цепляясь за найденное.
Чрезвычайно благотворно действовала на Черкасова среда — замечательная труппа театра. В спектакле «Лес» он выступал партнером Мичуриной-Самойловой, Юрьева, Корчагиной-Александровской и других опытных мастеров. Ему поручили роль Буланова.
Знаменитая драма Островского была выбрана Мичуриной-Самойловой к своему юбилею 50-летней артистической деятельности. Вера Аркадьевна, принадлежавшая к прославленному актерскому роду Самойловых, встречала свой юбилей в прекрасной творческой форме. Образ Гурмыжской стал одним из лучших созданий актрисы. Она не старалась обыгрывать жалкое положение влюбленной в юнца стареющей барыни, а раскрывала в ней прежде всего «ханжу и скрягу, притворщицу, ломаку». Мотив «хищничества», проведенный исполнительницей через всю роль, определял суть и других персонажей, в первую очередь Буланова.
Черкасову надлежало войти в тон игры корифеев академической сцены и в то же время не показаться рядом с ними малоинтересным, безликим. В поисках внутренних подходов к образу он обратился к Островскому. Актер видел многие его пьесы на сцене, но сейчас, в чтении, по-новому открывал для себя великого драматурга, умевшего совмещать жизненную правду с театральной, художника слова редкостной силы.
Угасание некогда сенсационной мейерхольдовской постановки «Леса» (последний раз ленинградцы видели ее в 1934 году) говорило об исчерпанности сценического претворения Островского в духе и образах агиттеатра, в понятиях наивно-балаганного социологизма. Вообще сатирическая ревизия, которой одно время режиссеры наперегонки подвергали «устарелого бытописателя», явно себя исчерпала. Реставраторские постановки тоже не могли оживить Островского. Поверив писателю, Кожич имел целью не «исправить», а раскрыть пьесу. Он вернулся к тому плодотверному взгляду на Островского, согласно которому великий русский драматург был не только обличителем «темного царства», но и певцом светлых начал народной жизни.