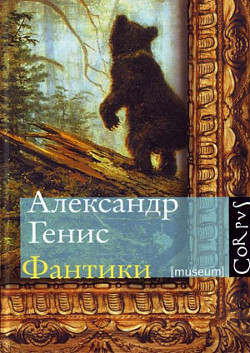Христа народу” – грандиозная теологическая конструкция. Заключенное в этом полотне пространство – вымышленное, сказочное и безграничное. Христа мы видим словно на экране телевизора, транслирующего виды с иной, лучшей, чем наша, планеты. Между Ним и грешниками как будто пролегает невидимая и неприступная запретная зона, охраняющая божественное от человеческого. Надеясь все же преодолеть ее, на переднем плане тесно, чуть не вываливаясь за раму, скучились люди. Им одиноко, страшно и холодно, но всех греет близость к абсолютному идеалу.
Христос с опаской косит на ждущих, да и направляется, похоже, мимо них. Траектория его шествия загадочна и непредсказуема. По земле он идет как по воде, не ступая, а лишь касаясь пустыни ногами. Это – движение призрака, который не приходит, а именно что является.
Философия в России чувствует себя лучше не в трактате, а в романе. В один из них Иванов превратил евангельскую притчу. Темой этого опуса стал переход Ветхого Завета в Новый. Последний воплощает Христос, первый – все остальные.
Собрав колоритную массовку, художник сохранил индивидуальность каждого ее члена. Людей на картине ровно столько, сколько надо, чтобы они не стали безликой толпой. Одни принимали эту причудливо изогнутую процессию за ядовитую ехидну, другие – за колоннаду будущего храма, третьи – за угнетенный русский народ.
Не зная, с кем согласиться, я пошел другим путем, взявшись за расшифровку ивановской тайнописи с помощью ножниц. Вырезав из пейзажа людей, я обнаружил на их месте зияние, напоминающее Чермное море. Чувствуя себя кладоискателем, я сменил канцелярские ножницы на маникюрные и удалил с картины ее главного героя. Образовавшееся в верхней части отверстие, бесспорно, походило на замочную скважину. Ключ к ней, надо полагать, – откровение.
Изрезанная картина мне понравилась даже больше целой. Христос на ней вернулся к себе, став незаполнимой дырой в душе, с которой каждый справляется по своей вере.
20 июля
Ко дню рождения Джорджо Моранди
Слава первого (после мэтров Возрождения) художника Италии не могла выбрать менее подходящую жертву. Его ценили все, начиная с Бенито Муссолини и кончая Бараком Обамой, повесившим две картины в Белом доме. Живопись Моранди цитировали в своих фильмах Феллини и Антониони. О нем писали стихи и романы. Ему было все равно.
Когда наконец разбогатевшему художнику пришла пора, как всем зажиточным болонцам, строить дачу в прохладных горах, архитектор, трепеща перед знаменитым заказчиком, принес блестящий проект. Вместо него Моранди нарисовал на листке квадрат с треугольником крыши. Подумав, добавил дверь и четыре окна. Таким этот дом и стоит – проще не бывает.
В перенасыщенной искусством Италии только простота позволила выжить художнику. Моранди никогда не писал портреты, пейзажи – редко и только летом. Все, что он мог сказать, выражали натюрморты, обычно – из бутылок.
Пустая бутылка – странная вещь: она продолжает жить, исчерпав свое назначение. Дерсу Узала, писал Арсеньев, отказался стрелять в бутылку, не понимая, как можно разбить такой ценный предмет. Моранди тоже ценил бутылки и запрещал с них стирать пыль, потому что она позволяет увидеть, как на стекле оседает время.
К тому же бутылки (маленькая голова и широкое, как в юбке, тело) заменяли художнику мадонн его национальной традиции. Уважая предшественников больше тех, кто им подражал, Моранди вел искусство вспять – к нулевому, по его словам, уровню. Как Галилей из недалекой Падуи, Моранди искал геометрию в природе. Ради нее он разбирал реальность на простые, словно те же бутылки, формы. Своими любимыми художниками он называл Пьеро делла Франческу, Сезанна, Пикассо, Мондриана, но был строже их всех. На его картинах, где две-три бутылки едва танцуют со светом, даже лаконизм был бы излишеством.
20 июля
Ко дню рождения Алексея Германа
Когда мы с Германом, как советовал Мандельштам, отправились в Царское Село, погода была зверской. Опустошенная зимой и политикой, аллея парка вела к кукольному замку с башней и флюгером.
– При большевиках, – сказал я, сглотнув слюну, – здесь подавали миног.
– Забудь, как звали, – отрезал Алексей.
Из упрямства я толкнул ржавую дверь, исписанную словом из трех букв, зато по-английски: sex. Неожиданно она легко открылась. Внутри сияли огни и белели скатерти.
– Миноги есть? – обнаглев, спросил я.
– А как же! – ответил официант, и мы выпили под них с мороза.
Алексей решил, что в ресторане снимают кино из прежнего времени, но я не согласился, считая, что он сам во всем и виноват. Герман так упорно творил вторую реальность, что от напора прохудилась первая. Вымысел продавливает действительность и отпирает двери, включая заржавевшие от простоя. Вблизи художника колышется завеса, в щель дует, и происходят мелкие чудеса.
Много лет спустя мы встретились с Германом в Пушкинских Горах. Он уже не пил, но еще завидовал и по вечерам рассказывал о встречах с вождями, включая предпоследнего.
– Родину любишь? – спрашивал Ельцин Германа, зажав того под мышкой.
– Как не любить, – еле выдавил режиссер и был отпущен по добру и с наградой.
Послушать Германа приходил белый, словно сбежавший из фильмов Тарковского, жеребец. Он даже ржал вместе с нами.
– Как его зовут? – не сдержав, как всегда, праздного любопытства, спросил я у пришедшего на веселый шум конюха.
– Герман, – ответил тот и повел купать коня в пруду, покрасневшем от заката.
21 июля
Ко дню рождения Эрнеста Хемингуэя
Мое поколение не только выросло на Хемингуэе, но и превратило его в русского писателя, причем любимого.
Списанный у Хемингуэя образ жизни был, как это водится в России, важнее собственно литературы. Ей не повезло еще и потому, что подражать Хемингуэю проще, чем любому другому автору. Еще Ильф и Петров предлагали запретить читать Хемингуэя начинающим писателям. Многие классики 1960-х, включая Аксенова, ощутили на себе этот “страх влияния”, который они изживали, избавляясь от повсеместных штампов: нарочитой грубости, поэтики умолчания, рубленого – телеграфного – диалога.
Сам Хемингуэй тут ни при чем, ибо он как раз скрывал источник своей литературы. Ее секрет в том, что Хемингуэй писал стихами. Собственно, ими он и начинал. Их немного, и все можно найти в русском переводе. Многие известны в мастеровитом исполнении Вознесенского. Вот начало цикла “Прощай, оружие!”:
В ногу, в ногу!Ближе к цели…В ногу, в ногу!Ближе к Богу.Ноги липнут, как магниты,Страшно гибнуть, помогите, помогите!
Когда Хемингуэй перешел на прозу, он продолжал писать ее стихами, сделав все, чтобы читатель об этом не догадался. Тем не менее это становится очевидным, если прочесть автора в оригинале. Как бы хороши ни были русские переводы, они не передают той жесткой ритмической структуры, что держит предложение невидимыми, но крепкими скобами. Догадаться о них можно лишь тогда, когда мы попробуем перестроить эти, казалось бы, немудреные фразы. Малейшая перемена портит текст, разрушает нарративную ткань и заставляет спотыкаться, если, что полезно для книг Хемингуэя, читать их вслух или хотя бы проговаривать про себя.
Литературная отточенность хемингуэевской прозы сперва терялась ввиду новаторского содержания его ранних опусов. Он первым написал любовный