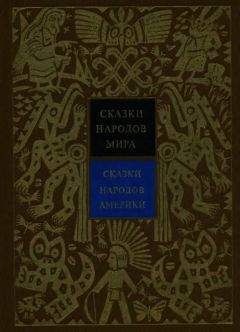вопросы так же, как и люди: десяток псов собираются в кружок — морда к морде и начинают ожесточенно облаивать друг друга, брызгая слюной. Кто всех перелает, тот победил. Подобно туземцам, место для сходок псы выбирают самое неподходящее и в самое неподходящее время. Сейчас дюжина блохастых кабысдохов расположилась прямо под нашими окнами. Я лег на бок и закрылся подушкой, стало жарко, я снял подушку и закрылся спальником. Стало душно. Лег на спину, открыл глаза — голова болит, музыка орет, псы не унимаются. Стараюсь этого не замечать, я же в Индии, а тут всем на все плевать. Пытаюсь успокоиться — когда же эти твари умолкнут!?
В общем, встал я не с той ноги.
Мы вновь поднимались по дороге к музею Рериха. Все вокруг меня бесило в это утро, кроме горного пейзажа — если б не он, то я бы, наверное, набил морду владельцу аудио-лавки и перетаскал за моськи всех шелудивых псов! В Индии так случается — проснешься в один прекрасный денек, а тебя бесит абсолютно все, и в особенности местные жители. Нельзя же, чтобы каждый Божий день тебя все радовало, вот судьба и придумала один выходной — сегодня как раз такой. У кассы музея толпилось несколько русских, каких-то нелепых индивидов и с такими лицами, что даже стало «за державу обидно». Я уже был готов сорваться на них, но Кашкет меня удержал, и мы просто злорадно нахихикались.
Не знаю, утро ли тому виной или галерея Рериха и впрямь отстой, но мне тут все не понравилось, включая рериховские работы. Я вышел оттуда еще мрачнее, чем был. Теперь меня могло успокоить только одно — вкусный завтрак. Но надо ж такому случиться, что и завтрак оказался дрянь. Первый раз в жизни я пил не просто плохой ласси, а скажем без обиняков — отвратительный. Ласси готовится из курда и должен быть густой, как йогурт. Если представить, как делается творог, после которого остается желтая кислая жижа — то вот именно это нам и принесли. Босс кафешки поминутно выглядывал из кухни и спрашивал «Food is good?» [108]. В обычный день я б из вежливости сказал что «ок» или кивнул. Но тут я даже напугал его, сказав, что его ласси в этот солнечный весенний денек похож на самый жидкий стул самого безнадежно больного дизентирией туриста.
По дороге домой к нам привязался какой-то нервный тип в образе Ханумана [109], индийского бога — царя обезьян, который в незапамятные времена повел свое обезьянье войско, чтобы вытащить Шиву из какой-то передряги. Чертами и мимикой он действительно походил на обезьяну. Сзади к его оранжевой мантии, изображая хвост, был прикручен кусок проволоки, загнутый кверху. Он все время подпрыгивал и делал резкие движения, чем даже испугал меня, выскочив на нас из-за дерева. Он явно не понимал, что шутит с огнем — я был не в духе. Кашкет всучил ему пять рупий, чтобы «Хануман» только отвязался, но тому показалось мало, и он еще долго подпрыгивал нам вслед, мне стоило больших усилий удержаться и не оторвать ему хвост.
Вернулись в отель, попили чайку и решили ехать в Манали. Прощаясь с добрым боссом отеля, купили у него кусок твердого за сто рупий, а его другу Кашкет подарил свою грязную футболку, которую собирался выкинуть, друг был счастлив и, утирая слезу, долго не выпускал Кашкета из объятий. В ожидании автобуса устроились в придорожной кафешке и закурили косяк, который оказался… — автобусы проходили мимо, а мы все заказывали чай, но вот, наконец, подошел наш черед. Это был четвертый или пятый по счету автобус, на котором нам удалось покинуть Нагар.
* * *
Несколько дней кряду ограничиваемся походами по недалеким окрестностям Олд Манали. Тихие, кривые, скользкие от ручьев улочки, веселый люд, ткацкие станки на крышах, все пропитано неспешностью пробуждающейся весны. По утрам белое небо спускалось в деревню, а снежные вершины кутались в серую дымку.
Хозяина отеля, где я и мой друг мерзли третий день, звали Эм Си, так он сам себя величал и так нам представился, не распространяясь более подробно об этимологии своего прозвища. ЭмСи чем-то напоминал несколько пополневшую бабу Ягу из советских фильмов и одновременно застенчивого джина. На вопрос, сколько ему лет, он пожал плечами, помолчал и неуверенно ответил: «Twenty five».
На улице начался дождь. ЭмСи предложил нам попить чайку внизу у него на кухне в отдельном домике с плиткой, газовым баллоном, кроватью и полками с посудой. Мы сидели втроем, жуя печенье и неспешно болтая. Для меня это было не так просто — после щедрого хозяйского чиллама я с трудом разбирал, что мне говорит ЭмСи, он был точно в том же состоянии — это я понял, когда он взялся готовить «Black tea». ЭмСи тремя пальцами кинул крошечную щепотку заварки в гигантскую кастрюлю, затем залил ее холодной водой и, не дождавшись пока вода вскипит, бухнул туда полкило сахара. Немного помешав ложкой в кастрюле, он разлил нам по стаканам почти прозрачную воду с желтоватым оттенком. Слова путались, и мы вскоре распрощались, сославшись на то, что хотим спать.
Кровать в нашей комнате стояла в нише, а колонки на полу в отдалении, звук так странно разливался по комнате, отражаясь от стен, что нельзя было угадать, где находится источник звука — музыка была повсюду. Я долго лежал и слушал старину Моррисона, дождь все моросил, шурша каплями по крыше. Под утро дождь зарядил не на шутку, небо стало темным и серым, далекие горы пропали из вида, и можно было разглядеть только ближние склоны.
* * *
Весь следующий день у меня болел живот, я валялся дома под десятью одеялами и читал. Кашкет сделал вылазку в New Manali [110] за бананами, но подозреваю, что ему не терпелось отведать mutton momos. По возвращении он отверг эту теорию, сказав, что это не было целью, а лишь вторичным стимулом, от которого он не смог удержаться, а главное — он зашел в парикмахерскую, где, счищая его окладистую бороду, несчастные парикмахеры затупили полсотни бритв. Там же на нем опробовали массаж головы. «Прекрасная штука! — сказал Кашкет, — Сначала бьют кулаками по макушке, щиплют за виски и вправляют шейные позвонки, напоследок давят на глаза, дергают за руки и хрустят пальцами. Мне втерли два литра крема в физиономию и надавали пощечин — это завершающий этап массажа лица!».
Вечером, только я собрался вздремнуть, вошел ЭмСи с