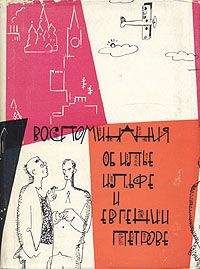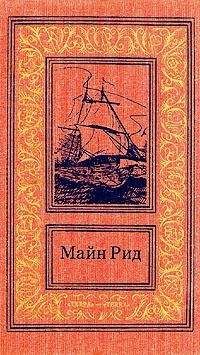Петров перекроил по-своему весь вид «Огонька». Завел новые, интересные отделы, красивые шрифты, остроумные заголовки, оригинальную верстку. «Огонек» стал пользоваться успехом, за ним гонялись, старались не пропустить очередной номер.
Деятельность Евгения Петровича в качестве редактора «Огонька» была подлинным творчеством. Он вкладывал в журнал всю свою выдумку, эрудицию, опыт и вкус зрелого, талантливого писателя.
Мне случалось навещать редакцию «Огонька», когда там редакторствовал Евгений Петрович. Обстановка в редакции была на редкость приятная. Здесь царила атмосфера интеллигентности, которая создается не только высоким образовательным цензом работников. По тому, как говорили сотрудники «Огонька» с Петровым, видно было, что они отлично понимают, насколько поднял их журнал новый редактор. Они уважали его, изо всех сил старались выполнить его указания, считая, что новшества, введенные им, будут на пользу делу: они гордились своим руководителем. Все это можно было почувствовать в первые же полчаса пребывания в редакции.
Заметно было и то, что Евгений Петрович с доверием и уважением относился к своим сотрудникам. Здесь свойственная ему доброта, кипучая энергия, трудолюбие и аккуратность в работе были очень к месту.
Но война дала другое направление жизни Евгения Петровича. С конца июня 41-го года он начал работать в Совинформбюро. Писал и для советской и для зарубежной печати. Американские читатели узнавали о том, что происходит в Советском Союзе в первые месяцы войны, именно из очерков Петрова, печатавшихся в заокеанских газетах.
По всему видно было, что он отходил от тяжелого душевного удара, нанесенного ему смертью Ильфа.
Петров часто и подолгу бывал на фронтах, но судьба сперва берегла его.
Увиделись мы с ним в Куйбышеве, куда ненадолго эвакуировались некоторые правительственные учреждения, в том числе и Совинформбюро.
В тесном зале куйбышевского ресторана «Гранд-Отель» я встретил Евгения Петровича. Передал ему привет от его жены и детей, с которыми незадолго перед тем видался в Чистополе и Казани. Евгений Петрович был очень нервным и возбужденным, но панических настроений, которые — теперь можно сказать об этом — охватили некоторых ретивых любителей мажорного искусства и военно-наступательной беллетристики, в нем не было и в помине. Он носил знаки различия старшего батальонного комиссара. И в военной форме был все такой же — подтянутый, щеголеватый, аккуратный.
28 октября я уехал из Куйбышева. На прощание мы с Женей поцеловались. Мог ли я думать, что больше мне не суждено будет встретиться с ним?..
В мае 42-го года я был призван в армию для работы во фронтовой печати и в начале июля был в командировке от газеты Северо-Кавказского фронта в частях 51-й армии, расположенной под Ростовом. 3 июля, войдя в редакцию армейской газеты (в станице Мечетинской), я услышал середину фразы, звучащей из радиоприемника:
«…вдове Валентине Леонтьевне Катаевой-Петровой..»
Задохнувшись, я кинулся к приемнику. Сомнений не было — Евгений Петрович погиб.
…Ночью, ворочаясь на узкой койке в мечетинском Доме колхозника, я долго не мог заснуть.
С глубокой болью я почувствовал в эти часы, до какой степени был мне нужен мой покойный друг! Пусть бы он ходил по земле где-то далеко от меня. Пусть бы мы общались с ним редко и мало. Мне хватило бы и этого. А теперь я чувствовал, что из моей жизни ушло что-то очень дорогое, что-то лично мне принадлежавшее. Оборвалась одна из самых крепких нитей, которыми я привязан был к родному городу, к любимому ремеслу, к среде близких людей.
Читатель простит мне эгоистический характер этих строк. Да, я знаю, смерть Петрова прежде всего — горе его семьи, его детей, огромная утрата для его читателей, а их миллионы. Но это и мое горе, и я не могу промолчать об этом, когда пишу о покойном друге…
И вот были два замечательных человека — и нет их. Что же осталось? Остались книги. Умные и добрые, веселые и талантливые книги. В наше время произведения литературы быстро стареют и даже умирают. Сколько сочинений, возбуждавших еще недавно восторги, споры, всеобщий интерес, сегодня потеряли всякое значение! А вот собрание злободневных фельетонов и романы Ильфа и Петрова радуют нас едва ли не больше, чем в дни своего выхода, ибо, описывая злобу дня, происшествия, случившиеся в тогдашнем «сегодня», наши писатели сумели сыскать в этой злобе дня и талантливо выразить глубокую суть описываемого. И вот тому убедительный пример: эти романы, самые «локальные» по материалу, переведены на все языки мира. Оказывается, и в Европе, и в Азии, и в Америке читатели постигают в них то, что рассказывают Ильф и Петров про далекую и неизвестную им жизнь советских людей.
Для меня и при жизни моих друзей было наслаждением рассматривать в книжном шкафу Евгения Петровича (Ильф не был таким аккуратным коллекционером) нарядные переплеты иностранных изданий «Двенадцати стульев», «Золотого теленка» и «Одноэтажной Америки». Вот стоит английский перевод, выпущенный в Нью-Йорке. Вот английское издание из Лондона. Вот французский текст, на корешке марка «Париж». А вот французский перевод из Брюсселя. Вот венское издание на немецком языке. Вот берлинское. Вот чешское заглавие. Вот польские, норвежские, шведские, испанские, итальянские, турецкие, японские, китайские, арабские буквы и слова… По всему миру разошлись книги наших друзей. Они «удостоились» сожжения на фашистских кострах в гитлеровской Германии. Их запретил Франко и, говорят, проклял римский папа. Но на всех Языках мира они свидетельствуют о том, что у нас на родине жили два талантливых, добрых и веселых человека.
И я счастлив, что знал обоих этих чудодеев, — разве написать хорошую книгу не значит сотворить чудо?
Любой человек, которому довелось бы познакомиться с Ильфом и Петровым в начале 30-х годов, испытал бы, глядя на них, чувство зависти. Нынче на писательских собраниях такую зависть именуют «здоровой», но тогда этот термин был еще неизвестен, и, завидуя моим новым знакомым, я испытывал некоторое смущение.
А завидовать им было в чем. Такие они были умные, веселые, дружные, удачливые, такие неистощимые острословы, такие неуязвимые насмешники, так великолепно шла у них работа, так все их любили, так нарасхват шли их книги…
И только много лет спустя мы узнали, что именно в это время Ильф записывал в своей записной книжке: «Дело обстоит плохо, нас не знают… Если читатель не знает писателя, то виноват в этом писатель, а не читатель».