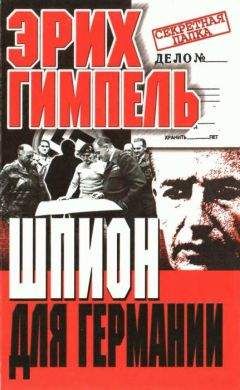Джоан уснула. Она улыбалась, лежа совсем тихо и повернув лицо ко мне. Я открыл окна, и в комнату стал поступать прохладный воздух. Я прикрыл девушку одеялом, чтобы она не простудилась.
Но тут во мне опять проснулся агент, заявивший о себе бескомпромиссно. Часа два я пытался отчаянно предать хотя бы на время забвению то, о чем мне настойчиво напоминало сознание.
Жизнь меня не очень-то щадила: я видел, как умирали друзья, а когда измерял ширину ворота, то мне казалось, что я ощущаю прикосновение потных рук палача. Я пережил тихое отчаяние в тюремной камере, чувство безысходности, безжалостное давление времени, убивавшего во мне жизнь день за днем, час за часом. Влекомый потоком событий и будучи не в состоянии что-либо изменить, я попадал в ситуации, о которых не хотелось бы вспоминать.
Теперь мне надо было самому броситься в этот поток, покинув спящую, улыбающуюся Джоан, которая была рада от сознания того, что проснется у меня под боком. Я должен был отказаться от счастья этого вечера, праздничной атмосферы уютного жилища, взять свой чемодан и уйти. В холодный Нью-Йорк, город в сердце вражеской страны. Да я и сам был врагом для людей, праздновавших Рождество, шпионом страны, которая фактически проиграла войну.
Я подумал было разбудить Джоан и все ей объяснить. Я был уверен, что она на меня не донесет. Но это будет ее погибелью, так как ее привлекут к ответственности за укрывательство немецкого шпиона. Военный трибунал не признает никакой любви и не знает пощады. И она будет приговорена к смертной казни. Безумный, безжалостный патриотизм — чудовище, вскормленное войной, — не оставит ей никаких шансов.
Нет, этого делать нельзя, пока у меня есть хоть какая-то искорка благоразумия. Пока сохраняется чувство ответственности. Пока я ее люблю.
Она повернулась во сне. Лицо ее стало видно еще отчетливее. Света было достаточно, чтобы разглядеть ее черты, которые я старался запомнить, так как больше никогда не увижу ее! Я не имел права объяснить ей, почему ушел не попрощавшись, почему был вынужден так поступить и сделать ей больно. Она, скорее всего, не сможет этого понять. Увидев, что меня нет, она начнет плакать, ощущая неизбывную горечь в душе. Станет проклинать случай, сведший нас вместе, ненавидеть счастье, соединившее нас на несколько часов.
Нет, я не смогу этого сделать! Тихонько я подошел к ней поближе. Я должен остаться, сказал я себе. Надо послать все к черту и сохранить наше счастье. Война скоро кончится, практически даже закончилась. Я признаюсь ей, какую роль играл в этой войне. Она все поймет и говорить на эту тему больше не будет. Деньги у меня были. Я владел испанским языком и знал обычаи и нравы Южной Америки. Я знал, куда надо уехать, чтобы скрыться от преследования. Знал, где меня никто не будет искать. Она поедет вместе со мной. Нужно только выждать каких-то два-три дня, и тогда нам это удастся, мы укроемся в безопасном месте. Возможно, нам придется поехать раздельно. В этом случае Джоан ничем не будет рисковать. Я знал, как делаются такие дела, как следует пересекать границы и держать в узде свои нервы. Хоть раз в жизни моя работа сослужит мне хорошую службу.
Она и не подозревала, какая борьба шла в моей душе, какие сомнения ее терзали. Не знала она и того, что ее будущее неразрывно связано с моим прошлым.
Встав, я собрал свои вещи и достал чемодан из-под дивана, на котором она спала. Я надеялся, что от шороха она проснется и не заставит меня одного принимать трудное решение.
Но Джоан продолжала спать. Сквозь открытое окно в комнату проникли клочья тумана, и я закрыл его. Вынеся вещи в коридор, подумал, что надо бы написать ей хоть несколько слов. Но делать этого не стал и, еще раз обернувшись, направился к двери.
* * *
Я пренебрег даже простейшей осторожностью, так как мною овладело равнодушие. Уйдя от Джоан, я не мог уже здраво рассуждать и мыслить.
Остановив такси, поехал прямо в одну из гостиниц. Мне было безразлично, есть ли там сотрудники ФБР или нет и когда, наконец, задержат меня: сразу же или чуть погодя. Хотелось только, чтобы все это скорее закончилось.
Свой чемодан я поставил прямо около регистратуры. Достаточно было лишь его открыть, и доказательства моей преступной деятельности были бы налицо. Купив бутылку виски, отправился вместе с нею спать. На следующий день проделал то же самое.
Рождественские дни прошли. Я полностью позабыл, чему меня учили в агентурной школе. Возможно, если бы я вел себя «профессионально», со мной не произошло бы то, что произошло.
Я начал перепроверять сведения, полученные от Брауна, ни разу не обернувшись даже, чтобы выяснить, не следует ли кто за мной. Я был как бы в шорах, но посещал библиотеки и газетные архивы, беседовал с инженерами и рабочими, задавая незавуалированные вопросы.
Конечно, «Манхэттенский проект» был строго засекречен, но ни одна страна в мире не сможет скрыть работы по созданию атомной бомбы. И США не были тут исключением. Взять хотя бы уже то, что путь, который проделывал уран, добываемый на севере Канады и поступавший — правда, в меньших объемах — из Бельгийского Конго, можно было довольно легко проследить.
Для охлаждения атомного реактора необходимо огромное количество воды. На реке Колумбия был в связи с этим сооружен водоотвод. От меня не укрылось и то, что в Ок-Ридже, штат Теннесси, всего за несколько месяцев как из-под земли выросло огромное шестиэтажное заводское здание.
Не остались без проверки и полученные мною сведения об испытательных полетах, в ходе которой выяснилось, что с Тихого океана для этих целей были откомандированы два опытных офицера. Это были летчики с «Б-29», крупнейшего в то время американского стратегического бомбардировщика. В Аризоне они занимались на первый взгляд бесполезным делом, взмывая время от времени в воздух с макетом сверхтяжелой бомбы. Пилоты не имели ни малейшего представления, зачем они делают это.
Сжав зубы, я снова стал проявлять осторожность. Мое сообщение о том, что удалось мне разузнать, может предотвратить большую беду, если германское правительство будет своевременно оповещено о страшной опасности, нависшей над нашей страной. И если в Берлине поверят моему сообщению…
Я собрал передатчик, правда, не без труда. К семнадцати часам по нью-йоркскому времени к радиосвязи все было готово. Составив донесение, я увидел, что текст получился слишком уж длинным. Перечитав его несколько раз, убрал слов пятьдесят. После этого закодировал сообщение и заучил его наизусть. Написав шифровку на бумажке, сократил ее еще на целое предложение. Рассчитав, что радиосеанс потребует минут восемь или даже десять, я стал работать на ключе. Сможет ли ФБР запеленговать меня в Нью-Йорке? Считали ли там возможным, чтобы немецкие шпионы передавали отсюда свои сообщения?