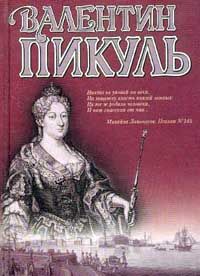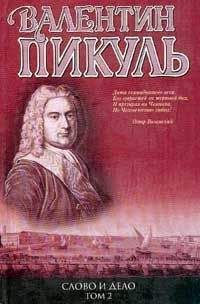думать об англичанах. Больше всех мне нравились норвежцы, спокойно идущие на смерть и на свадьбу. От них я усвоил для себя прекрасную привычку к холоду. Вот уже тридцать лет я в любой трескучий мороз не ношу перчаток.* * *
Надо сказать, что на «Грозящем» мне не сразу нашли постоянное дело. Два похода я даже селился на корме — в пятой палубе, где жили минеры и торпедисты. Моя задача была проста: по тревоге я, словно угорелый, кидался по трапу на ют и там, при атаках на подводные лодки, помогал минерам отдавать цепи с глубинных бомб. Ют эсминца низок, через него бьет волна, работа трудная. Больше всего смытых — с юта. Здесь чаще, чем где-либо, слышалось: «Держись крепче!» Очевидно, командование все же опасалось за мою юную жизнь, потому что вскоре меня перевели на другой пост и стали обучать специальности горизонтального наводчика КДП.
КДП — это командно-дальномерный пункт, массивная башня, торчащая над мостиком. По бокам ее распялены трубы дальномеров, дающих дистанцию до противника. Хрен редьки не слаще! Сидишь в низком кресле, согнутый в три погибели, а вокруг броня обшита кожей. Ты словно наглухо запечатан в промороженном танке, который мотает из стороны в сторону — дух из тебя вон! Перед тобою — оптика прицела с вертикальной нитью, которую надо совместить с фок-мачтой корабля противника. Рядом со мною сидит вертикальный наводчик, у него в прицеле нить тянется по горизонту, и он обязан подвести ее под ватерлинию противника. Когда мы оба отработаем на оптике совмещение, можно давать залп.
Но и в КДП я долго не засиделся. Нашли, что такая работа мне не по зубам. Опасность, правда, была. Она заключалась в той обезьяньей ловкости, с какой следовало по тревоге взбираться в башню КДП. Бывали на бригаде случаи, что дальномерщиков срывало ветром при крене. Удачно сорвет — все же соберешь свои кости на решетках мостика; неудачно — порхнешь за борт, и твое личное дело сдадут в архив флота. Наконец мне поручили по боевой тревоге находиться в штурманской рубке. Тут все знакомое, все родное. Хороший кожаный диван приютил меня, и я привык видеть перед собой спину штурмана, согнутую над картами. Присяжнюк любил при расчетах разговаривать вслух и меня при этом не стеснялся. Он был хороший человек, и я его искренно уважал, хотя и дрючил он меня крепко, скрывать тут нечего…
Служба налаживалась. Но гиропост с его тайнами заманивал меня все больше. Бывало, закончишь работу по должности рулевого, а потом с мостика лезешь на днище эсминца и там помогаешь Лебедеву — уже как штурманский электрик. Иванов выходил из себя, видя, что старшина принимает мои услуги.
— Карьеру делаешь? — говорил он мне. — Не суйся, мелюзга, не в свое дело. Или у тебя своих медяшек не хватает драить?
Но я любил гирокомпасы, Лебедев был ко мне внимателен, и потому я плевать хотел на этого «земляка». Что нам делить? Я же не подсиживаю его, чтобы занять место начальника. Да и какой он, к бесу, начальник? Сам перед Лебедевым по струнке ходит и в глаза ему заглядывает. Старшина, напротив, заметив мой интерес к электронавигационным приборам, всячески поощрял меня, и скоро получилось так, будто у меня два командира — Курядов и Лебедев. Об этом старшины и сами, смеясь, поговаривали в кубрике.
— Вон твой, — говорил Лебедев. — Молодой да ранний.
— Много он ест, — отвечал Курядов. — По двум постам сразу.
— Что делать? Стал общим… Может, распилим его пополам, чтобы с единоначалием не мучиться?
Присяжнюк знал о моей страсти к гирокомпасам, но как штурман он был даже заинтересован в том, чтобы его рулевой был грамотен в инструментах и приборах навигации. Меня раздирало по службе между мостиком с манипуляторами и днищем эсминца с его гиропостом. Ах, как я жалел тогда, что Школа юнг не выпускала штурманских электриков! Впрочем, иногда Лебедев уже оставлял гиропост на мою ответственность.
— Посиди тут, — говорил он мне. — Я сейчас вернусь. Поглядывай на термостат. Если что, усиль работу на помпу…
В декабре наш «Грозящий» выходил на встречу союзного каравана. В океане стоял лютейший мороз. Дышать, стоя лицом по курсу корабля, было нельзя — обжигало легкие. Надо отвернуть лицо, вдохнуть и тогда снова глядеть вперед. Началось опасное обледенение.
Когда многие тонны воды смерзаются на палубе в глыбы пузырчатого льда, корабль тяжелеет, у него появляются опасные крены. «Грозящий» в такие моменты критически замирал на борту, с трудом возвращаясь на прямой киль. По трансляции объявили: «Комсомольцы — на обколку льда!» Мне досталась работа на полубаке — под самым накатом волны. Все мы были привязаны шкертами за пояса. Лед разбивали скребками и ломиками. Сами превратились в сосульки. Закончили работу, когда эсминец уже втягивался в Кольский залив. К пирсу подошли вместе с «Разводящим» и встали борт к борту. На «Разводящем» еще продолжали обколку льда, и среди боцманской команды я заметил Витьку Синякова.
— Привет! — окликнул я его.
Вид у него был пришибленный и потасканный. Видать, службишка ему не давалась. Ватник заляпан красками. Витька перетянул его ремнем потуже, чтобы не поддувало ветром, и выглядел неряшливо. Шапка болталась на затылке. Повзрослел он и мальчишкой никак не выглядел.
После аврала мы сошлись возле поручней эсминцев. Между нами, разделяя нас, пролегла пропасть черной воды.
— Скверно, брат, — сознался мне Синяков. — Я уже два раза по десять суток огреб. Сидел в Ваенге… Гауптвахта без клопов, кормят сносно. Да что рассказывать? Или ты сам не сидел?
— Нет, — говорю, — пока Бог миловал. А что?
— Послали уличные нужники убирать. Там все замерзло — горой! Ну, совсем как сталактиты…
— Сталагмиты, — поправил я его. — Снизу растут.
— Во-во! Точно так! Отколешь кусок в полпуда, прижмешь к себе и тащишь до моря. Бултых! А оно не тонет…
— Ты ведь в самодеятельность хотел, — напомнил я.
Витька глянул на меня как-то тускло.
— На чечетке не выедешь. Я уже совался к замполиту. Мол, так и так: талант пропадает. А он меня с порога завернул.