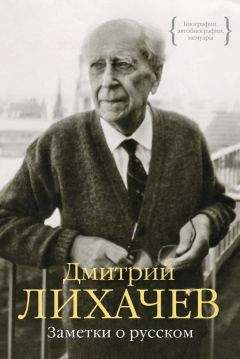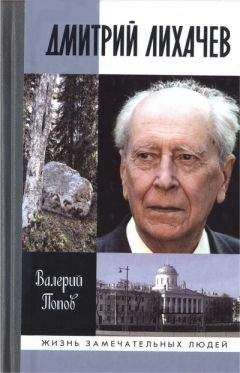Советская текстология главной своей задачей начала ставить не просто «установление текста» каким-либо из многочисленных предлагавшихся в разные эпохи и в разных странах способов, а изучение истории текста, чем и приобрела право признаваться особой наукой, занимающейся не простым «установлением текста» для издания, а имеющей свой предмет изучения с многочисленными применениями своих результатов: для истории творчества какого-либо автора, для исторической науки, для юридического обоснования правомочности документа, его исторического значения, и среди всего прочего – для издания изучаемого текста, «выбора текста». Именно текстология делает литературоведение наукой, позволяет достигать прочных результатов в любой области литературоведения, включая стиховедение, лингвистическое изучение текста, стилистический его анализ и т. д. и т. п.
Что же достигнуто в этой области сейчас? Возьмем такую область, как пушкинистика. Совершенно неправильно обычное, распространенное мнение о том, что здесь уже не́чего изучать и все возможное сделано, или сделано главное в научном отношении, и разнообразие достигается между отдельными работами по пушкинским произведениям только за счет различного эмоционального отношения к тексту и к самому Пушкину. Это эмоциональное разнообразие, конечно, тоже нужно, но самое важное, что кое-что меняется в основах пушкиноведения. Кто не знает огромного значения в рукописном наследии Пушкина его так называемых рабочих тетрадей. Они изучались и перед последним большим академическим изданием Пушкина, но изучались «потребительски», то есть издатель того или иного произведения каждый раз извлекал из рабочих тетрадей Пушкина те тексты, которые имели отношение к интересующему его произведению. Сейчас изучение рабочих тетрадей Пушкина поставлено на новые основы, которые, конечно, предугадывались и раньше, но которые получили свое принципиальное выражение в двух недавно появившихся работах: С. А. Фомичева «Рабочая тетрадь Пушкина ПД № 832» и Я. Л. Левкович «Рабочая тетрадь Пушкина ПД № 841». Обе работы помещены в издании «Пушкин. Исследования и материалы», т. XII, 1986, и обе посвящены важнейшей теме – истории заполнения рабочих тетрадей. Это переворот в изучении пушкинского наследия. Переворот, который вряд ли сразу может быть осознан и оценен. К рукописям Пушкина устанавливается не «потребительское» отношение, а как к предмету целостного изучения. Когда будет выяснена история заполнения Пушкиным своих тетрадей и отдельных листков, можно будет с уверенностью судить об истории текста отдельных произведений и истории творчества Пушкина в целом. Перед нами грандиозные перспективы пушкиноведения, требующие притока молодых научных сил.
Но историзм в текстологии сказывается и в самых разнообразных областях литературоведения. Уже давно он занял передовые позиции в изучении древнерусской литературы. Блестящие успехи могут быть продемонстрированы на книге Р. П. Дмитриевой, посвященной одному из самых привлекательных произведений Древней Руси – «Повести о Петре и Февронии Муромских» (Л., 1979). Благодаря изучению всех многочисленных рукописей повести (списков, сделанных в разное время) удалось установить с полной бесспорностью и время написания повести, и имя ее автора. Любопытно: при принятых ранее способах и приемах «установления текста» обилие списков всегда было серьезным затруднением. Теперь же обилие списков хотя и удлиняет работу исследователя, но зато приводит к бесспорным и точным результатам.
Значит ли сказанное мною, что текстология должна в основном занимать литературоведа? Нет, конечно. Текстология дает прочную основу. Она одно из оснований научности литературоведения, его точности. Но на основе выводов по истории текста и на основании самих текстов (одного, допустим, произведения, но на различных этапах своего создания) можно изучать текст в самых различных аспектах и самыми различными науками (лингвистически, стиховедчески, источниковедчески, исторически, с точки зрения истории общественной мысли, истории философии и т. д.).
Один из возможных подходов – структуральный. Но характерно, что в русской советской структуральной системе изучения все настойчивее пробивается исторический подход, который делает в конечном счете структурализм неструктурализмом, ибо историзм разрушает структурализм, позволяя вместе с тем усваивать в нем лучшее. Структурализм открыл много нового в изучении формы в ее связи с содержанием. Я считаю (это мое мнение, которое я никому не навязываю), что работы Ю. М. Лотмана, Б. А. Успенского, Б. Ф. Егорова и других очень много дают для расширения изучения литературы. Меня не пугает (а многих она отпугивает) усложненная структуралистская терминология. Из этой терминологии многое исчезнет, но что-то и останется, и это уже очень важно. Слова, термины не только выражают, означают, но они и открывают… Обозначить явление словом – это заметить его. А это настолько важно, что стоит потратить на это некоторые усилия. Неприязнь к структурализму иногда объясняется трудностью чтения структуральных работ. Трудность эта создает психологическое сопротивление, внутреннюю неприязнь к структуральным работам, а заодно и к их авторам. Не будем поддаваться этому чувству.
Объяснение «белого венчика из роз» у Христа в конце «Двенадцати» Блока. В символике православия и католичества нет белых роз, но это могли быть те бумажные розы, которыми украшали чело «Христа в темнице» в народной среде – в деревенских церквах и часовнях. Ведь солдаты в «Двенадцати» – это бывшие крестьяне. См. иллюстрацию на с. 49 в книге «История первоклассного ставропигиального Соловецкого монастыря» (СПб., 1899) – «Вид резного изображения Спасителя, находящегося в Филипповской пу́стыни».
Для характеристики обращения А. Ремизова с народным и древнерусским материалом и, больше того, творчества его в целом крайне важно его «Письмо в редакцию» журнала «Золотое руно» (1908, № 7–9, с. 145–148), написанное по поводу обвинения его в плагиате у… народного творчества. Ремизов, между прочим, пишет там: «Только так, коллективным или преемственным творчеством, создается произведение, как создались великие мировые храмы, мировые великие картины, как написались бессмертная „Божественная комедия“ и „Фауст“». Ремизов пишет, что он ставит себе задачей «воссоздание нашего народного мифа». Современное ему творчество А. Ремизов называет «одичалым и мучительно-одиноким творчеством, пробавляющимся без истории, как попало, своими средствами из себя, а попросту из ничего, и в результате – впустую». «Работая над материалом, я ставил себе задачей воссоздать народный миф, обломки которого узнавал в сохранившихся обрядах, играх, колядках, суевериях, приметах, пословицах, загадках, заговорах, апокрифах». А. Ремизов называет свой способ работы «„художественным пересказом“, „амплификацией“, то есть развитием в избранном тексте подробностей или дополнений, чтобы в конце концов дать сказку в ее возможно идеальном виде. Что и как прибавить или развить и в какой мере дословно сохранить текст, в этом вся хитрость и мастерство художника».
В сущности, А. Ремизов работал методом древнерусского книжника, и поэтому не может быть даже назван стилизатором. Он не стилизатор, а продолжатель в условиях Нового времени.
Нельзя писать густой прозой: густой от острот (см. Ильф и Петров), густой от деревенского диалекта (иногда с выражениями из разных диалектов – лишь бы были подремучее), густой от изысков (А. Белый, ранний Леонов), густой от старинных выражений или выражений «под старину» (все почти исторические романы наши – чтобы их писать попроще, не «наполняя» старыми речениями, а «исключая» слишком современные, – как писал Пушкин свои исторические вещи).
Вот Василь Быков: у него крестьяне говорят как люди, а поэтому и проблемы у него не деревенские, а человеческие. Я сказал об этом В. Быкову, а он мне ответил, что это оттого, что переводит сам свои произведения с белорусского на русский. Кабы все так! В этом, подумалось, великая сила прозы переводов с иностранного: они делают локальные произведения общечеловеческими. Прав ли хоть немного?
Склоняется ли «Нотр-Дам»? У Ю. В. Бондарева в статье «Критика – категория истины?» есть такая фраза: «Сколько раз повторялись, варьировались в искусстве темы Христа, Богоматери, Мадонны, темы старой Москвы с ее бесподобным городским уютом, Петербурга с закатными набережными, Парижа с его Нотр-Дамом, Сеной и бульварами (Марке, Писсарро, Коровин)». Самое главное в прозе – ее точность и ясность. Как-то неясно в этой фразе, считает ли написавший ее «Богоматерь» и «Мадонну» чем-то одним или двумя разными персонажами, что такое «закатные набережные»? – набережные, освещенные закатывающимся солнцем, или набережные, находящиеся на западной стороне Невы – там, где закатывается солнце? Эмоциональность прозы отнюдь не уменьшилась бы, если бы она была более точной. Но самое главное – точность грамматическая. Надо знать, какие из иностранных имен, фамилий, наименований можно склонять, а какие склонять нельзя. Можно ли сказать: «я был в соборе Нотр-Даме», «видел Нотр-Даму», «интересовался Нотр-Дамой»? Ошибка непростительная для русского писателя.