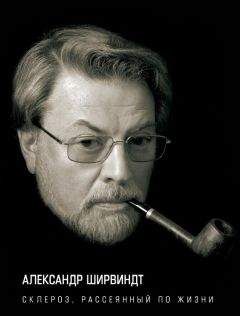Зямина езда на этой «вольве-Антилопе-гну» подарила мне несколько дней «болдинской осени». Осенью Зяма немножечко зацепил своей «вольвой» какого-то загородного пешехода. Пешеход почему-то оказался недостаточно пьян, чтобы быть целиком виновным. Нависли угроза лишения водительских прав и всякие другие неприятные автомобильные санкции. Мы с Зямой взялись за руки и поехали по местам дислокации милицейских чиновников, где шутили, поили, обещали и клялись. Но размер проступка был выше возможностей посещаемых нами гаишников. Так мы добрались наконец до мощной грузинской дамы, полковника милиции, начальницы всей пропаганды вместе с агитацией советской ГАИ. Приняла она нас сурово. Ручку поцеловать не далась. Выслушала мольбы и шутки и, не улыбнувшись, сказала: «Значит, так: сочиняйте два-три стихотворных плаката к месячнику безопасности движения. Если понравится – будем с вами… что-нибудь думать».
Милицейская «болдинская осень» была очень трудной. В голову лезли мысли и рифмы из неноменклатурной лексики. Но с гордостью могу сообщить читателям, что на 27-м километре Минского шоссе несколько лет стоял (стоял на плакате, разумеется) пятиметровый идиот с поднятой вверх дланью, в которую (в эту длань) были врисованы огромные водительские права. А между его широко расставленных ног красовался наш с Зямой поэтический шедевр:
Любому предъявить я рад
Талон свой недырявый,
Не занимаю левый ряд,
Когда свободен правый!
Это все, что было отобрано для практического осуществления на трассах из 15–20 заготовок типа:
Зачем ты делаешь наезд
В период, когда идет
Судьбоносный, исторический
24-й партийный съезд?
Настали иные судьбоносные времена. В 90-е экспансивный и впечатлительный Зяма Гердт удрал из больницы, чтобы поддержать президента в телемарафоне. На подступах к Дому кинематографистов его окружила толпа сторонников другого лагеря, и сорокалетняя женщина кричала ему: «Куда вы идете? Там же одно жидовье!»
И семидесятипятилетний Гердт, который получил увечья на войне, защищая будущее этой твари, и сбежал из больничной палаты, чтобы защитить ее еще раз, со слезами на глазах рассказывал об этом с экрана. Бедный Зяма!
Не желаю быть циником, но где уверенность, что, если бы Гердт вдруг стал пробиваться на марафон в защиту противоположного лагеря через толпу сторонников президента, он не услышал бы аналогичное «жидовье» из уст своих единомышленников? «Среди гнилых яблок выбора быть не может», – гласит старинная русская мудрость. Гнили тогда накопилось столько, что воздух перемен, попавший в наш подпол, активизировал процесс гниения и выдул вековой смрад наружу.
У Тани Гердт фамилия не Гердт. У Тани Гердт фамилия – Правдина. Не псевдоним, а настоящая фамилия, от папы. Трудно поверить, что в наше время можно носить фамилию из фонвизинского «Недоросля», где все персонажи – Стародум, Митрофанушка, Правдин… – стали нарицательными. Нарицательная стоимость Таниной фамилии стопроцентна.
Таня не умеет врать и прикидываться. Она честна и принципиальна до пугающей наивности. Она умна, хозяйственна, начальственна, нежна и властолюбива. Она необыкновенно сильная.
С ее появлением в жизни Зямы возникли железная основа и каменная стена. За нее можно было спрятаться… Такой разбросанный и темпераментный, эмоционально увлекающийся человек, как Зяма, должен был всегда срочно «возвращаться на базу» и падать к Таниным ногам. Что он и делал всю жизнь.
Таня – гениальная дама, она подарила нам последние 15 лет Зяминой жизни…
Зяма всегда и все делал очень аппетитно. Когда я видел, как он ест, мне сразу же хотелось есть. Он никогда не «перехватывал» в театре, между репетициями или во время спектакля. Все ели, потому что были голодны, а он терпел и ехал домой на обед или ужин.
Он всегда замечательно одевался. Носил вещи потрясающе элегантно. Он никогда не раздумывал над покупкой, он просто очень хорошо знал, во что ему положить тело. И хромота у него была такая, которая вовсе не читалась как хромота. Он не хромал, а нес тело. Нес, как через «лежащего полицейского», через которого нужно переехать медленно…
Зяма был дико рукастый. Всю столярку на даче он всегда делал сам. А на отдыхе, у палаток, скамейку, стол, лавку, табуретку сбивал за одну секунду.
Как-то у себя в деревне под Тверью я пытался построить сортирный стул, чтобы под тобой было не зияющее «очко», а как у цивильных людей. Я мучился, наверное, двое суток. И когда забил последний гвоздь, понял, что прибил этот несчастный стульчак со стороны ножек табуретки, – вся семья была в истерике. И я вспомнил Зяму. Он бы соорудил за две минуты самый красивый и удобный уличный сортир в подлунном мире. Он сделал бы трон.
Добрые слова надо писать ранним утром – к вечеру начинаешь сомневаться в их искренности. В нашей молодости было много ведомственных здравниц. Союзу архитекторов, например, принадлежал знаменитый дом отдыха «Суханове». Мы поехали туда на Новый год и получили путевки. В них было написано: «Белоусова Наталия Николаевна, член Союза архитекторов, и Ширвиндт Александр Анатольевич, муж члена».
В процессе взросления и старения отдыхательные позывы становятся антитусовочными. Тянет под куст с минимальным окружением. Много мы пошастали уютной компанией по так называемым «лагерям Дома ученых». Ученым, в отличие от артистов, необязательно отдыхать на глазах восторженной публики. Они придумали свои лагеря на все вкусы: Черное море – Крайний Север – крутые горы – тихие озера и быстрые реки… Природа – разная, быт – одинаково суровый: палатки, столовка на самообслуживании, нужда под деревом… Гердты, Никитины, Окуджавы и мы были допущены в эти лагеря для «прослойки» и из любви.
Обычно наша компания пробивалась на турбазы не скопом, а индивидуально. Чтобы не потеряться, перебрасывались почтовыми посланиями. Например, поселок Встренча, турбаза. Мы с моей женой Татой незамысловато сообщаем, что «место Встренчи изменить нельзя». И получаем от Оли и Булата намного изысканнее:
Радость Встренчи, боль утраты —
Все прошло с открыткой Таты.
На открытку я гляжу
И в палатку захожу.
С ней под толстым одеялом
Вместо грелки я лежу.
Если Окуджавы и Зяма с Таней Гердты приезжали раньше, то тут же телеграфировали:
Мы такие с Таней дуры —
Невзирая на Булата,
Вместо чтобы шуры-муры,
Все мечтаем Шуры-Таты.
Чтобы не сбиться с маршрута, телеграфировали друг другу прямо с трассы.
Окуджава – нам:
Прекратите этих штук —
Мы почти Великих Лук.
Проезжая стольный град,
Будем видеть очень рад.
Я – им:
И от нас большой привет.
Все разъехались по свет.
Миша – Ялта, Таты – нет.
Шура пишет вам ответ,
Завернувшись Зямы в плед.
На подробность денег нет.
На турбазах были строжайшие правила пребывания. Собак и детей – ни-ни. Наша чистейшая полукровка Антон и изящнейшая окуджавская пуделиха Тяпа жили полнейшими нелегалами и вынуждены были дружить и переписываться, в смысле сочинять послания.
Украинское село Ахтырка – Антону Ширвиндту:
По дороге на Хухры,
Там, где ямы и бугры,
Наши рожи от разлуки
И печальны и мокры.
При этом хозяева все время мечтали о мясе. Шашлык был по ведомству единственного лица кавказской национальности в нашей лагерности – Булата. В процессе подготовки – священнодействия – к нему лучше было не подходить и не раздражать его местечковыми советами. Он сам ехал к аборигенам, сам выбирал барана – уже не помню, но очень важно, чтобы баран был то ли недавно зачем-то кастрированный, то ли вообще скопец от рождения.
Наконец Булат говорил, что баран отобран, зовут (вернее, звали) его Эдик и вечером тело Эдика привезут. Разделывать будем сами, под его руководством.
Аборигены привезли Эдика и подозрительно быстро слиняли. Полночи разделывали Эдика – он разделываться не желал: кости и кожа составляли всю съедобную массу старого кастрата. И Булат сказал, что мы ни черта не умеем и наша участь – сушить с бабами грибы.
Постоянно придумывали что-то – не как всегда и везде. Вдруг узнаю: юбилей Булата празднуется в Суздале, а у меня – спектакль. Пользуясь привычной формой общения, посылаю телеграмму:
Стрелой, копьем, булатом ржавым
Отмстим судьбы помехам рьяным,
Не давшим нам в порыве пьяном
Обнять родного Окуджаву.
А когда я в очередной раз спрятался от своей круглой даты на берегу Валдая, то получил весточку от Булата:
Прими, брат, поздравленья от нашего двора,
Не поминай с тоской житейские излишки.
Шестидесятилетие – счастливая пора.
Мне ведомо о том, увы, не понаслышке.
Поскольку наш поэт вам сочинил куплет,
А песен в вашу честь, что мы слагаем сами,
Сегодня и не счесть, позвольте, ваша честь,
Обнять ваш силуэт и любоваться вами.
Друзьями надо заниматься постоянно. Их надо хотеть и нельзя разочаровывать. Их надо веселить, кормить и одаривать.