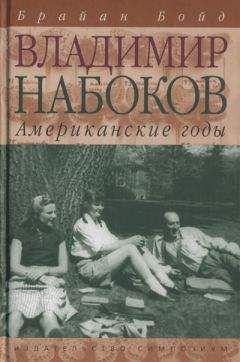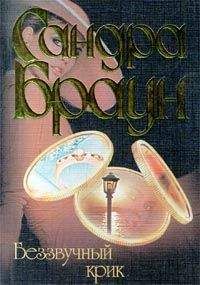После того как Уэлсли отказал ему в штатной должности, Набоков без малейших колебаний принял предложение Корнельского университета46. В октябре, в ожидании формального контракта, он написал еще одну главу автобиографии, «Мое английское образование» — об англофилии своих родителей, об английских гувернантках своего раннего детства, о наставнике-англичанине и о преподавателе рисования47. Он послал готовую главу в «Нью-Йоркер» и узнал, что они собираются основательно отредактировать и ее, и «Знаки и символы». Только уважением к Кэтрин Уайт можно объяснить сдержанный тон его письма о том, что сам принцип редактуры произведений в соответствии с журнальными представлениями об элегантности стиля представляется ему порочным:
Я буду очень признателен, если вы поможете мне выкорчевать плохую грамматику, но мне бы не хотелось, чтобы мои длинноватые фразы обрезали слишком коротко или чтобы опускали те разводные мосты, которые я с таким трудом поднял. Иными словами, я хотел бы, чтобы вы ощутили разницу между нескладной конструкцией (что плохо) и некой особой — как бы сказать — извилистостью, каковая есть мой стиль и которая только на первый взгляд может показаться нескладной или неясной. Почему бы читателю время от времени не перечитать фразу? Это ему не повредит.
Его горячо поддержал Эдмунд Уилсон: «Я прочитал рассказы Набокова и считаю, что оба рассказа безупречны. Не следует менять ни одного слова». Целый год Набоков предлагал Уилсону помощь в судебном процессе против его «Записок о графстве Гекаты», обвинявшихся в непристойности. На самом деле помочь не мог ни он, ни кто бы то ни было другой: книгу все-таки провозгласили непристойной[46]. Набоковы провели День Благодарения с Уилсоном и его новой, четвертой, женой Еленой, которая им обоим очень понравилась48.
Хотя Набоков уже дал согласие на работу в Корнеле, подробности того, что именно он будет преподавать, еще предстояло утрясти — перекрестный огонь взаимного недопонимания продолжался шесть месяцев и вылился в двадцать писем.
Набоков должен был стать сотрудником отделения русской литературы и вести там два курса на свое усмотрение, а кроме того, еще один на отделении общего литературоведения — желательно введение в предмет, «что-то вроде курса Великих Книг и курса Стимулирующей Болтовни, — определил Бишоп, — от Библии до Т.С. Элиота». Набоков неправильно понял, что от него требуется, — не зная, что в Корнеле существует определенная программа, включающая в себя Фукидида, Софокла, Сервантеса, Мольера и Вольтера, выпадающих из его избирательной литературной диеты, он активно засел за написание воистину набоковского введения в литературоведение. Он написал Томасу Берджину, декану факультета литературоведения: «То, что Вы говорите о вводном курсе, кажется мне очень интересным. Я долго крутил это в голове и собираюсь подготовить курс, состоящий из двух созвучных друг другу частей: Писатели (Учителя, Рассказчики, Волшебники) и Читатели (Искатели Знания, Развлечения, Магии). Конечно, это только грубая схема. Я собирался включить в него авторов из разных стран и категорий»49.
Узнав о своем заблуждении, он, конечно же, принял фиксированную программу Корнельского университета, хотя и не слишком охотно — их учебный план казался ему чересчур элементарным и недостаточно набоковским. Он также предложил вести два семинара на русском языке: общий обзор и «Ренессанс русской поэзии, 1890–1925», от Блока до Пастернака и Ходасевича. А когда преподаватели дисциплин, связанных с русистикой (истории, языка, политологии), возразили, что, может быть, лучше Набоков будет вести один семинар на русском языке и один на английском, он заявил, что еще лучше два семинара на русском и один на английском вместо лекций по введению в литературоведение. «Скажу, однако, совершенно откровенно, — писал он по-русски профессору Марку Шефтелю с исторического факультета, — что я бы очень и очень предпочел, чтобы этот курс заменил не один из предложенных русских курсов, а именно „Введение в литературу“. Русская литература — моя специальность, и я ее преподаю с большим удовольствием, между тем как один случайный курс по общей литературе, да еще к тому же столь элементарный, меня, признаться, мало привлекает». В результате он предложил три курса по русской литературе: обзорный на русском языке, обзорный на английском (совпадение программ было, конечно же, великолепным способом экономить время) и курс от Блока до Ходасевича. Предложение Набокова было принято, но пока что он и не думал о том, что когда-то будет читать лекции на тему «Шедевры европейской литературы» — которыми по сей день памятно его преподавание в Корнеле50.
Начался 1948 год, и американцы стали дрожать от страха холодной войны. Восторженное отношение к Советскому Союзу сменилось после войны чувством, что своими действиями в Восточной Европе, относительно которой были нарушены все обещания, СССР предал Америку; многие ожидали скорой и смертоносной войны в Европе. В начале 1947 года Набоков написал Тригве Ли, рекомендуя свою сестру Елену в качестве библиотекаря ООН в какой-нибудь из западноевропейских стран. Поначалу вакансий не было, но к концу года ей удалось уехать из Праги и получить место в библиотеке ООН в Женеве. Набоков по-прежнему посылал деньги Евгении Гофельд и написал официальное гарантийное письмо, пытаясь вывезти из Чехословакии ее подопечного — своего племянника Ростислава Петкевича. Он опоздал: в феврале 1948 года в Чехословакии свершился коммунистический переворот. Хотя Набоков не оставлял попыток перевезти своего племянника в Америку, Ростислав скончался в Праге в 1960 году, не дожив до тридцати лет, — он умер от алкоголизма, в котором находил забвение от мрачной реальности51.
В декабре 1947 года вышло первое собрание рассказов Набокова на английском языке — три рассказа, переведенных с русского, один, переработанный, — с французского («Мадемуазель О») и пять написанных по-английски. Эта книга под названием «Девять рассказов» стала последней книгой Набокова, опубликованной в издательстве «Нью дирекшнз». То, как «Нью-Йоркер» обращался со «Знаками и символами», окончательно вывело его из себя: редакторы пытались вымарать из гранок даже знаки и символы, служащие в рассказе осью пятого измерения. Набоков написал Кэтрин Уайт: «Честно говоря, я предпочел бы, чтобы Вы вообще не печатали рассказа, если уж его подвергли такому доскональному расчленению. Вообще говоря, я абсолютно против самой идеи редактирования моих рассказов. Среди поправок, навлеченных на этот рассказ, нет ни одной, действительно необходимой, а многие убийственны»52. По счастью, к его авторскому голосу прислушались.