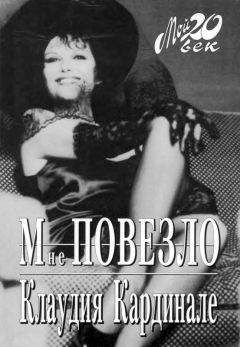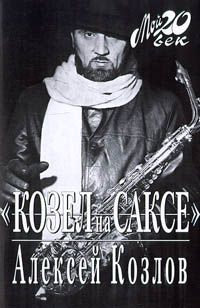— Вероятно, поэтому я подсознательно пришла к решению почти совсем не надевать свои прекрасные драгоценности. Драгоценности приятно смотрятся на молоденькой девушке, а увешанная ими зрелая женщина становится похожа на новогоднюю елку. Вообще женщины надевают драгоценности в надежде отвлечь взгляды от того, что им хотелось бы замаскировать: темные круги или мешки под глазами, морщины, в том числе и мимические. На деле же все получается наоборот: как это ни парадоксально, драгоценности лишь подчеркивают недостатки.
— Когда ты перешла в кино от роли дочери к роли матери?
— Я сыграла роль матери, будучи совсем еще молодой: в двадцать лет в фильме «Рокко и его братья»… Впрочем, я и в жизни тогда была уже матерью. Во всяком случае, я никогда не боялась постарения на экране. Так было и в «Истории» Коменчини, и в «Княжне Дейзи», снимавшейся в 1983 году во Франции, в Лондоне и в Соединенных Штатах. Что до фильма «Майриг», то там я даже позволила превратить себя в восьмидесятилетнюю старуху.
— В Италии актрисе, которой больше сорока, уже трудно найти работу. Во Франции же ради Барбары, Режин, Мишель Морган, Моро и так далее публика ломится в театры. У них толпы молодых поклонников, и они совершенно безразличны к своему возрасту…
— Барбара здесь, в Париже, не просто женщина. Она богиня. Потому что, если ты как актриса преодолеешь барьер сорокалетия, ты уже останешься в обойме навсегда. И независимо от того, о ком идет речь — о женщине или мужчине, они становятся «национальным достоянием». Взять хотя бы Беко, Трене, Жана Марэ, Азнавура и Джонни Холлидея. Я уж не говорю о восьмидесятилетнем Марселе Марсо… Если ты занял свое место в обществе, тебя уже не вышвырнут из него. Профессия артиста здесь имеет большее значение, чем твой преклонный возраст.
— Как ты собираешься распорядиться своей жизнью лет через десять?
— Изменить свою жизнь, конечно же, придется. Однако мне кажется, что сама я не изменюсь и всегда буду такой, какая есть.
— Изменить? Но как? Ты уверена, что лет через десять или двадцать захочешь по-прежнему жить в городе или выберешь какой-нибудь более спокойный уголок? Как, по-твоему, следует жить в старости? И где?
— Ну знаешь… Я считаю, что старость нельзя проводить в одиночестве: так ты постареешь еще сильнее и раньше. Чем старше становишься, тем больше нуждаешься в людях. Нужно жить вместе со всеми и их проблемами. Если старый человек не хочет умереть до времени, тем более — интеллектуально, он должен разделять жизнь своей эпохи, своего общества. Он должен чувствовать себя частицей своего времени.
— Я тоже так считаю. Не нравятся мне все эти сакраментальные фразы вроде: «Вот выйду на пенсию и куплю себе домик в деревне…»
— Да… Хотя у нас с Паскуале домик в деревне уже есть. В Нормандии, в совершенно фантастическом месте. Это даже не домик, а норка, такой он маленький — совсем кукольный. Но мы очень любим это место. Вокруг домика ручьи, рощи. Там можно встретить разгуливающих на свободе лошадей, утром тебя будит мычание коров… Да, иногда мне хотелось бы жить там. У меня даже обнаружились там способности к живописи. Я рисую, а Паскуале читает или пишет…
Ну не знаю, действительно ли проблема стареющего человека в том, где жить. Скорее следовало бы подумать — как и с кем. Рядом со мной очень жизнелюбивый мужчина, и, если мы сможем остаться вместе, время, пожалуй, пройдет так, что мы его и не заметим. По-моему, человека очень старит пассивность. Пассивность, отказ от борьбы удваивают или даже утраивают груз лет. Когда я одна, склонность к пассивности у меня проявляется довольно часто: она живет во мне…
— Это Африка…
— Да, это Африка. Которую я люблю и с которой борюсь. Ведь я из тех, кто работает, кто всегда ищет себе дело, и вместе с тем где-то внутри у меня сидит желание ничего не делать, не работать. Большую часть того, что я делаю, я делаю, чтобы побороть в себе эту врожденную пассивность.
— Тебе не хотелось бы вернуться в Африку насовсем?
— Конечно, я туда обязательно вернусь… Я постоянно туда возвращаюсь. Но не думаю, что смогу окончательно там обосноваться. Что уж теперь…
Где бы я ни была, я всегда ищу и покупаю очки: темные, светлые, марки «Джеймс Дин», в черепаховой оправе, со сменными линзами, на пружинках. У меня есть очки с позолоченными, посеребренными, черными, цветными оправами.
Очки нравятся мне. По-моему, они «одевают» лицо… или защищают его. Возможно, я пользуюсь очками, как Анжелика из «Леопарда» пользовалась веером… Они — оружие защиты и нападения. Вероятно, все это от моей давней и не совсем преодоленной робости…
А вот когда мне нужно себя поощрить или порадовать, я наполняю дом цветами — самыми разными. Особенно мне по душе простые цветы: я выбираю их сама и составляю букеты. Пожалуй, это занятие больше всех других дает мне возможность успокоиться, расслабиться… Отправиться на цветочный базар или на бульвар Сен-Жермен, где такие потрясающие лотки, ходить там часами и смотреть… Это приносит такой душевный покой.
Я очень любила и люблю деревья. Обзаведясь в Риме виллой (с которой сейчас приходится расстаться, ибо разум подсказывает, что это необходимо, а в психологическом плане болезненно), я сама посадила там все деревья. Сегодня эти пинии, ливанские кедры, магнолии уже такие огромные… А когда молния ударила в посаженную мною пинию и расколола ее пополам, я чуть не плакала: дерево росло перед моим окном и увидеть его искалеченным мне было так больно, как если бы я лишилась вдруг руки.
Косметику я покупаю обычно не по необходимости, а чтобы развеять тоску и дурное настроение. Когда неприятные мысли или чувства начинают одолевать меня, я захожу в парфюмерный магазин и накупаю массу всяких вещей, которые мне абсолютно не нужны, так как меня устраивает мой обычный вид. Я постоянно пользуюсь своей привычной косметикой, не люблю покрывать лицо тоном — достаточно и небольшого количества простой пудры. Единственное, что я действительно гримирую, — это глаза.
Я придаю большое значение вещам — всему, что меня окружает. Прежде, уезжая на съемки в какую-нибудь далекую страну, я брала с собой всякие мелкие предметы, позволявшие создать там мою естественную и привычную обстановку: фотографии в рамках, какие-нибудь безделушки.
Вопреки общепринятому мнению в вещах часто заключается много жизни. Пространство без вещей, принадлежащих именно тебе, — это мертвое пространство. Может быть, потому я люблю старые дома — дома, в которых ощущается невидимое присутствие тех, кто жил там до тебя. Я бы не могла жить в современном доме — холодном, не имеющем прошлого. И еще мне нравится старинная мебель и совсем не нравится современная.