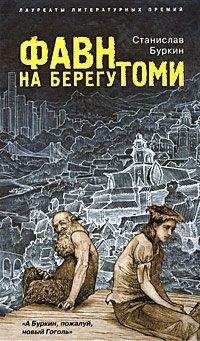Через два дня Суриковы выехали в Италию.
— Чудеса, да и только!..
Василий Иванович стоял на площади Дуомо перед Миланским собором. Резьба по белому мрамору начиналась от самого цоколя, ползла по стенам, переходила в кружево решеток, балкончиков, наружных арок, доходила до крыши и там расщеплялась на целый лес причудливых колонок и башенок разной величины и формы, держащих на себе статуи святых. Каждая башенка в отдельности стремилась ввысь, и все вместе они тянули весь собор в небо, будто сталактиты, обращенные остриями вверх. Собор казался легким, прозрачным, словно музыка тысячи флейт и кларнетов, возвещавшая славу небесам.
Суриков вошел в собор — он был весь пронизан наперекрест цветными лучами, где-то золотистыми, где-то холодно-синими; дальше вдруг все было охвачено теплым розовым, который пересекался изумрудным. Это было волшебство витражей. Василий Иванович долго бродил между колоннами, удивляясь цельности идеи строителей, стремившихся к тому, чтобы наружная красота соответствовала внутренней.
Мимо проходили монахи в коричневых рясах, подпоясанные веревками. Выбриты макушки в тонзуры, аскетически темные лица, сухие пальцы перебирают четки. И все они словно сошли с фресок Джотто…
Серебряный колокольчик оповестил начало мессы. Служки в белых блузах понесли к алтарю свечи. Старый священник дрожащим голосом прочитал молитву, и тут вступил орган. После парижского миланский орган показался Василию Ивановичу жидким и бедным. Он вышел на площадь, усеянную голубями…
Стояли последние дни января, а здесь на улицах продавались фиалки, и солнце припекало, хотя к вечеру с Альп тянуло свежестью и сразу становилось темно и сыро. Но до вечера было еще далеко, и можно было пройти мимо совсем недавно отстроенного роскошного пассажа Виктора Эммануила и, оставляя в стороне театр Ла Скала, по Корсо Маджента выйти прямо к монастырю Санта-Мария делла Грацие, чтобы еще раз поклониться «Тайной вечере» Леонардо да Винчи.
Вот и доминиканский монастырь. Теперь здесь музей.
Суриков покупает билет и входит в знаменитую трапезную, четыре столетия назад расписанную Леонардо да Винчи.
Фреска занимает одну только торцовую стену в глубине помещения. Больше всего поражает Сурикова мастерство, с которым вписана фреска в стену. Потолок над головами сидящих за столом Христа и апостолов уходит вглубь, словно в подлинную стену трапезной, и служит продолжением ее сводов.;
Василий Иванович долго изучает поблекшие и осыпающиеся краски. Почти все они съедены плесенью и ржавчиной. Леонардо изменил письму «аль фреско» — по сырому грунту клеевой краской, которую грунт втягивает быстро и прочно, на века, и вдруг решил писать масляной. Грунт не принял ее. Много лет потом гениальный художник пытался исправить свою ошибку. Временно цвета оживали, а потом снова жухли, начинали сходить с грунта и отпадать кусочками от стены.
Сурикову вспомнилось, как варвары-монахи для удобства своего пробили вход в кухню прямо сквозь фреску, отрезав Христовы ступни под столом. И еще вспомнилось ему, что во время вторжения Наполеона в Италию французский драгунский полк устроил в трапезной конюшню. Здесь были стойла, гремело конское ржание, шел смрад от навоза, драгуны вколачивали гвозди для сбруи прямо в роспись и бросали камешки в лица святых на пари…
Эти лица сейчас неясны, словно завешены какой-то вуалью, но сквозь эту завесу, может быть, еще сильнее и убедительнее экспрессия каждого поворота и каждого жеста людей. «Один из вас предаст меня!» — сказал Христос на этой последней, тайной встрече, и все сдвинулось с места, все пришло в смятение и ужас.
Суриков пытался представить себе, как выглядела фреска, когда была только что закончена. И ему казалось, что она была написана живо, страстно, человечно, совсем в иной традиции и манере, чем прославленные портреты да Винчи. И тем более горестно видеть, что с каждым пятидесятилетием фреска гибнет и когда-нибудь совсем исчезнет и растает за серой пеленой.
Василий Иванович еще раз осмотрел фреску и вышел, унося в себе чувство приобщения к таинству поисков, полному страданий, упований, напряжения и упорства. Человеческое проникновение и дерзновение мастера оставались жить в этой гениальной фреске, обреченной на постепенную гибель.
Было два часа дня, когда он вышел на улицу. «Успею еще разок забежать в галерею Брера», — подумал он и, осмотревшись, повернул к маячившей издали круглой башне замка Сфорца, откуда было рукой подать до музея Брера. Здесь ему еще раз хотелось посмотреть тициановский этюд головы святого Иеронима, дивный по лепке, рисунку и тонам. Он шел и думал, что все же до Веласкеса эти старики — Веронезе, Тициан, Тинторётто — ближе всех других понимали натуру и ее широту, хотя писали иногда очень однообразно.
В гостиницу Суриков вернулся только к пяти часам. Жена и дочери заждались его, все были голодны. Он повел их в маленькую тратторию — харчевню, где можно было заказать густой итальянский суп из овощей — минестру, заправленный тертым сыром, половить, закручивая на вилку, тонкие итальянские макароны — спагетти и выпить сухого красного вина «киянти», без которого ни один итальянец не сядет за стол.
Спустя четыре дня Суриковы покинули Милан. Их ждала Флоренция.
Были первые дни февраля, а Тоскана купалась в солнце. Под Флоренцией начинали развертываться бутоны на плодовых деревцах.
И дороги! Пепельно-серые дороги Италии, вьющиеся по холмам, выложенные камнем, с увитыми ежевикой уступами по одну сторону, с отлогими по другую, куда сбегают вниз корявые оливковые деревца, либо виноградники, либо плантации кукурузы. И песня. Всегда крестьянская песня. В прозрачном воздухе ее слышно так отчетливо, что угадываешь даже настроение поющего.
И сады. Апельсиновые и лимонные рощи за каменными оградами, в которые сверху вмазаны темно-зеленые осколки битых бутылок. Они коварно блестят и играют под солнцем, а за оградой девичий голос выводит мелодию итальянской песенки, и всегда в этих мелодиях мечта.
За поворотом слышен скрип высоченной двухколесной арбы, выкрики и хлопанье бича. Из-за уступа появляются две тяжелые, неподвижные воловьи головы. Впряженная в ярмо пара серых волов мягко шлепает широкими, плоскими копытами по теплой пыли. Старый крестьянин в черной шляпе, прихрамывая, гонит упряжку. Его алый кушак красиво врезается в общий тон свежей зелени, голубого марева тосканских холмов. С арбы свесила босые ноги горбоносая смуглая девушка, с улыбкой свежей, словно морская пена.