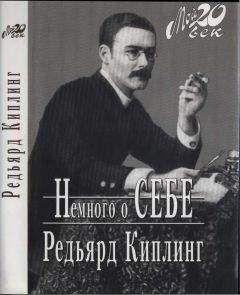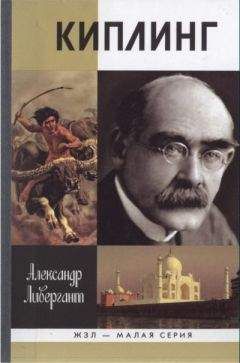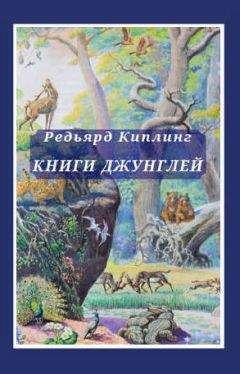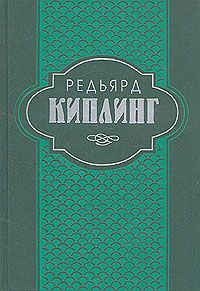А теперь любопытная история. На Парижской выставке 1878 года я увидел и запомнил на всю жизнь картину, изображающую смерть Манон Леско, и забросал вопросами отца. Эту поразительную «единственную книгу» аббата Прево я читал одновременно с «Roman Comique»[257] Скаррона[258] примерно в восемнадцать лет, и мне вспомнилась та картина. На мой взгляд, замысел находился в спячке, покуда мой переезд в Лондон (хотя это не Париж) не разбудил его, и «Свет погас» — это своего рода переиначенная, огрубленная фантасмагория, основанная на «Манон». Я утвердился в этом убеждении, когда французы стали с удовольствием читать этот conte[259], и мне всегда казалось, что в переводе он читается лучше, чем в оригинале. Но это всего лишь conte — не выстроенная книга. «Ким», разумеется, откровенно плутовской, бессюжетный роман — произведение, навязанное извне.
Однако я в течение многих лет мечтал выстроить настоящее судно из хорошо высушенного леса — тика и дуба; каждый изгиб плавно переходит в другой, чтобы море нигде не могло встретить сопротивления или хрупкости; весь его вид вызывает мысль о движении, даже когда громадные паруса на краткое время убраны и оно стоит в нужной гавани — судно, балластированное чушками точнейшего исследования и знания, вместительное, с изящными нижними палубами, окрашенное, резное, позолоченное по всей длине, от сияющих кормовых балконов, окаймленных бронзой пальмовых стволов, до вызывающего носового украшения — достойное занять место рядом с «Монастырем и очагом»[260].
Будучи не в состоянии осуществить этот честолюбивый замысел, я отверг его как «недостойный вдумчивого ума». Точно так же полуслепой человек отвергает стрельбу в цель и гольф.
И я не дожил до того дня, чтобы на горизонте появилось новое трехпалубное судно, содрогающееся от собственной мощи, заполненное барами, танцевальными залами, блистающее хромированной сточно-фановой системой, шумное от спортивных площадок до парикмахерских, но служащее своему поколению, как старые суда своим. Молодые люди уже делают их чертежи, твердо веря, что прежние законы проектирования и строительства для них не существуют.
Какими же орудиями работал я на своем старом чердаке? В этом отношении я всегда был разборчив, чтобы не сказать манерен. В Лахоре для писания «Простых рассказов» пользовался тонкой восьмигранной агатовой ручкой с пером «уэверли». Она была подарена мне, и, когда в недобрую минуту сломалась, я очень расстроился. Затем последовал ряд безликих вставочек: все с перьями «уэверли», потом серебряная ручка в виде гусиного пера, на которую я возлагал большие, так и не сбывшиеся надежды. На Стрэнде я приобрел огромную оловянную чернильницу и выцарапал на ней заглавия рассказов и книг, которые написал, обмакивая в нее перо. Однако, когда я женился, горничные стирали эти надписи, и в конце концов чернильница стала гладкой, как стертый палимпсест[261].
Потом я отказался от перьевых ручек «уэверли», которые нужно было макать в чернила — само перо я не менял — и в течение долгих лет пользовался маленьким «стилографом» и его преемницей, авторучкой, которой вечно сажал кляксы. В последние годы привязался к тонкому, гладкому черному сокровищу (его официальное название «Джаэль»), приобретенному в Иерусалиме. Я пробовал также ручки с насосом, но их «стеклянные внутренности» были невыносимы.
Из чернил мне требовались самые черные, и живи я в отцовском доме, как некогда, держал бы специального слугу для приготовления туши. Все черно-синее было отвратительно моему гению, и я никак не мог найти подходящих красных чернил, чтобы отмечать начало абзацев, которые хотел переделать потом.
Блокноты составлялись для меня неизменно из больших голубовато-белых листов, которые я расходовал в высшей степени расточительно. Эта старомодность не мешала мне во всех странах покупать блокноты.
Карандашами я перестал пользоваться — может быть, потому, что они надоели мне, когда я работал в газете. Кроме имен, дат и адресов я почти ничего не записывал. Если какая-то вещь не остается в памяти, убеждал я себя, записывать ее вряд ли стоит. Но у каждого свой метод. То, что хотел запомнить, я грубо зарисовывал.
Как и большинство людей, которые долго занимаются одной работой на одном месте, я всегда держал какие-то вещицы на вечно находящемся в беспорядке письменном столе шириной в десять футов. Там был лакированный подносик для перьев, полный кисточек и авторучек без чернил; деревянная коробка со скрепками и завязками; другая жестяная с кнопками; еще в одной хранились всевозможные ненужные вещи от наждачной бумаги до маленьких отверток; пресс-папье, принадлежавшее, как утверждали, Уоррену Гастингсу[262]; крохотный, но тяжелый котик и кожаный крокодил стояли, прижимая мои бумаги; измазанная чернилами складная линейка и старомодные перочистки, которые ежегодно дарила наша любимая горничная, завершали основную часть этих фетишей.
Мое обращение с книгами, на которые я смотрел, как на орудия труда, считалось варварским. Однако я экономил на перочинных ножах, и моему указательному пальцу это не вредило. Были книги, к которым я относился с почтением, потому что они стояли в запертых шкафах. Остальные, разбросанные по всему дому, были предоставлены своей участи.
Справа и слева на столе стояли два больших глобуса, на одном из них знаменитый летчик[263] как-то начертил белой краской те авиационные маршруты на Восток и в Австралию, которые стали использоваться задолго до моей смерти.
О свободе и необходимости ее использования; побуждение и проект, которые ни к чему не приведут; изыскание на тему об отчужденности от окружающего и муках проклятого
Когда весь мир так юн, брат,
И зелен полог леса,
И каждый гусь, брат, — лебедь,
Все девушки — принцессы.
Тогда, брат, ногу в стремя,
Мир обскакать не лень,
Кровь юная зовет, брат,
И праздник — каждый день.[264]
Когда минуло семь лет, необходимость, которой все мы служим, соблаговолила обратиться ко мне: «Вот теперь можешь совсем ничего не делать. Поживи в свое удовольствие. На один год я снимаю ярмо рабства с твоей шеи. Как ты распорядишься моим подарком?» Рассмотрев вопрос с разных сторон, я захотел было заняться перевоспитанием общества, но, поразмыслив, решил, что на такое дело уйдет больше года и в конце концов общество едва ли будет благодарно мне за это. Тогда я подумал: а не запить ли мне? Но тут же сообразил, что выдержу от силы месяца три, а головная боль после этого продлится все девять.