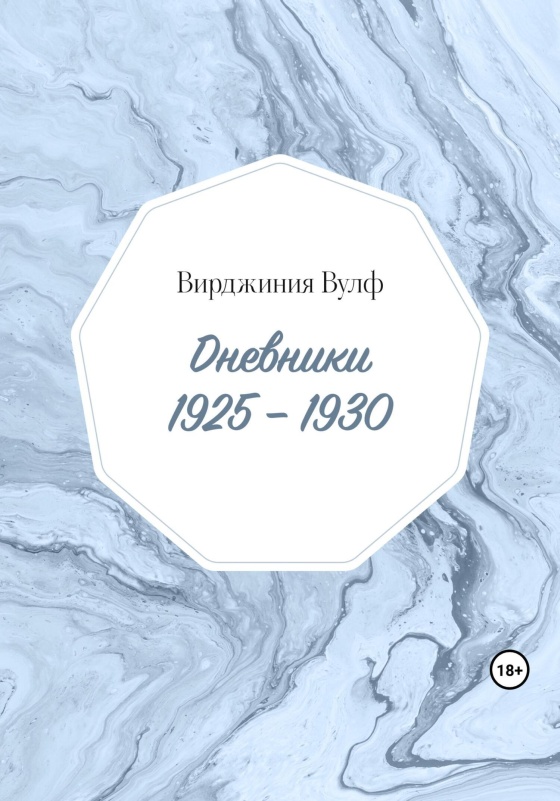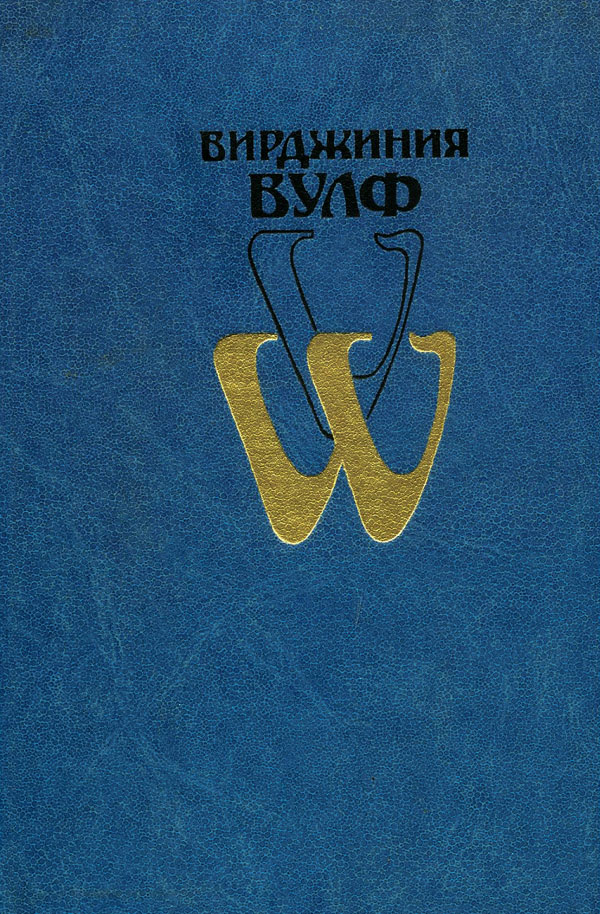годам, если пить слишком много коктейлей, да еще в компании хорошенькой миссис Джоуитт [680].
«Может, всему виной мистер Джоуитт, мадам?!» – сказала мне на днях Гравэ. Но не мне судить о талантах мистера Джоуитта [681].
Вчера я ужинала с Сэнгерами и наслаждалась обществом. Я была в своем новом черном платье и выглядела, смею заметить, довольно мило. Такое чувство у меня бывает крайне редко, и я намерена испытывать его чаще. Мне нравится одежда, в создании которой я принимаю участие. Итак, Берти Рассел [682] проявил радушие, и мы вместе нырнули в общество, словно пловцы в родной водоем. Один уже достаточно взрослый, чтобы отсечь все лишнее и перейти к сути. Берти – ярый эгоист, а это помогает расспросу. И сколько же удовольствия от его скачущего разума! Я вытянула из Берти все, что смогла унести.
– Ведь очень скоро я буду не в своей тарелке и выйду на берег. Я имею в виду все это, – сказала я и обвела рукой комнату, где к тому времени собрались мистер и мисс Амос [683], Розалинда Тойнби, немка и миссис Лукас [684]. – Все это месиво, но вы можете приставить к глазу телескоп и смотреть сквозь него.
– Будь у вас мои глаза, вы бы увидели мир пустым и бесцветным, – сказал он.
– Но мои цвета не лучше и взгляд глупый, – ответила я.
– Они нужны вам, чтобы писать, – сказал он. – Разве у вас не бывает отстраненного восприятия вещей?
– Бывает. Я так воспринимаю литературу, например Мильтона.
– Хоры в “Самсоне [685]” – это чистое искусство, – сказал он.
– Но у меня ощущение, будто людские дела нечисты.
– Бог занимается математикой. Я так чувствую. Это самая возвышенная форма искусства.
– Искусства? – спросила я.
– Ну в математике, как и в литературе, тоже есть стиль, – сказал он. – Я получаю огромное эстетическое удовольствие от хорошо написанной математики. Стиль лорда Кельвина [686] был отвратителен. Мой мозг уже не тот что раньше. Лучшие годы прошли, и поэтому, разумеется, меня сейчас прославляют. В Японии ко мне относились как к Чарли Чаплину [687] – это ужасно [688]. Я больше не буду писать о математике. Возможно, займусь философией. К пятидесяти годам разум теряет гибкость, а мне через месяц-другой как раз пятьдесят. Я должен зарабатывать на жизнь.
– Страна, разумеется, платит таким, как Рассел, – сказала я.
– Я потратил свои много лет назад, помогая перспективным молодым людям, которые хотели стать поэтами [689]. С 28 до 38 лет я жил в подвале и работал. Потом мной овладели мои увлечения. Сейчас я уже смирился со своим “Я” и больше не удивляюсь происходящему. Не жду эмоциональных переживаний. Не рассчитываю на что-то особенное, когда встречаю новых людей.
Я выразила свое несогласие со многим из сказанного. И все-таки я, вероятно, не ожидала ничего особенного от разговора с Берти. Я чувствовала, что он уже говорил все это множеству других людей. Поэтому я не пригласила его в гости, хотя наше общение мне очень понравилось; я вернулась домой и выпила какао на кухне; сегодня в 7:30 утра я почувствовала запах махорки и обнаружила, что Л. курит свою трубку у кухонного очага, вернувшись целым и невредимым. В Ньюкасле собрание отменили, в Манчестере собралось очень мало людей, в Дареме гораздо больше; столько усилий ради смешных результатов, и Л. сурово обсудил это с мисс Грин.
11 декабря, воскресенье.
Да, мне бы следовало менять постельное белье, но Леонард настоял на том, что все сделает сам. Это Лотти сейчас на лестнице? Стоит ли выйти и отругать ее за нарушение постельного режима? Есть ли горячая вода? Что ж, скоро придется выйти и съесть блюдо из мяса в ресторане. Короче говоря, у обоих слуг немецкая корь [краснуха], и вот уже три дня мы сами себе слуги, а не хозяева.
Поэтому прощу прощения за свои каракули; кажется, Лотти моет посуду.
Посмотрим, какими новостями я могу поделиться.
Мы ходили на «Дом, где разбиваются сердца [690]» с Партриджами и Литтоном. Последний только что купил рукопись мадам Дюдеффан [691]. Литтон как созревший на солнце персик. Кэррингтон носит его старое укороченное пальто. Партридж смеется не над теми шутками. Там были мистер [692] и миссис Джон [693], немного грубоватые и постаревшие; вино усугубило его поведение, а ей придало важный вид.
У нас ужинал Котелянский. Почему, услышав разговор о Салливане [694], Гертлере [695] и Сидни Уотерлоу, я отправилась спать с мурашками по коже? [696] Есть в них что-то скользкое. А еще они презирают женщин. Котелянский же время от времени говорит как человек из «преисподней». Нет, я ничего не могу с этим поделать – то одно, то другое.
Отмечу, что я уже в пятидесятый, кажется, раз пытаюсь написать бедняге Т. Харди. Молюсь, чтобы он сейчас сидел у своего камина в целости и сохранности. Пусть все велосипеды, бронхиты и гриппы держатся от него подальше [697].
18 декабря, воскресенье.
И вот уже почти конец года, а пустых страниц больше, чем хотелось бы видеть в процветающем дневнике, который, что странно, вырождается, как раз когда для него очень много материала. Вчера на чай и ужин приходил Роджер, а накануне мне пришлось после чая – теперь мы пьем его в четыре часа, чтобы угодить Ральфу, – совершить набег на магазины в поисках подарков. В четверг мне пришлось ставить точки с запятой в статье о Генри Джеймсе, пока я говорила с Ральфом через плечо, а затем спешить на поезд в Хампстед, чтобы поужинать с Бретт и Гертлером. Завтра мы ужинаем с Адрианом. Перечисляя таким образом факты, я уклоняюсь от обязанности описывать их. Что ж, гостиная Бретт едва ли вызовет у кого-то мурашки по коже. Сидя в своем черном платье у антрацитовой печки в студии, я подумала, что если Сидни, Котелянский, Гертлер, Бретт, Милн [698] и Салливан в один голос осудят меня, то я могу спать спокойно. У этих людей ни зубов, ни когтей. Они не верят друг в друга. В мое время группы были грозными, поскольку люди в них объединялись. У них, однако, Гертлер отмахивался от Сидни, называя его старым занудой (не в лицо); Котелянский выявлял недостатки, «да, весьма серьезные недостатки – нет, вы неправильно понимаете мой характер – я не придираюсь к людям, которые мне нравятся, – я никогда их не обсуждаю»; а Милн – луноликий шифровальщик, которого справедливо называют