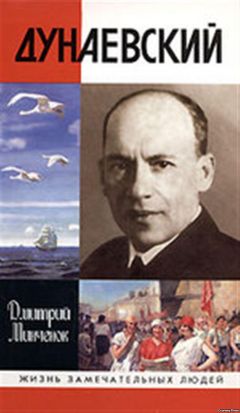Утёсов поручил изображать лошадь двум танцорам. Это был полушутовской-полуэротический гибрид двух парней, покрытых попоной, с торчащей палкой вместо шеи, которые выделывали разные смешные коленца и отплясывали чечётку — её тогда считали пролетарским танцем. Потом Утёсов придумал для себя роль американского дирижёра, интерпретирующего русскую классическую музыку на американский джазовый лад. Дирижёр был тем же единоличииком. Чего не сделаешь ради любви к джазу! Чтобы играть для пролетарских ушей, приходилось его порочить. Только в таком виде можно было услышать эту божественную музыку. Четвёртую маску придумал Утёсов для самого себя — как бы он, но в кривом зеркале. Говорят, что наивная Рина Зелёная, посмотрев этот спектакль, сказала: "Боже мой, если бы я видела этого человека в жизни, я бы его убила. Как можно жить с такими лицами. Я не удивлюсь, если узнаю, что у него много любовниц". По сюжету герой Утёсова заходит в магазин, где ему предлагают купить пластинку с блатными песенками в исполнении Утёсова.
— Что вы, — кривился Леонид Осипович. — Я хорошо знаю этого певца. Он никогда не пел блатных песен.
— Нет, это вы "что", — отвечают ему. — Вот послушайте, — и ставят пластинку, которая заканчивается словами Утёсова: "Я кончаюсь — переверни меня".
Впоследствии официально, с трибуны различных съездов или в печати, Дунаевскому приходилось ругать эти блатные песенки, изданные отдельной пластинкой. Но дома, в кругу друзей, он их хвалил как очаровательную шутку таланта. По молодости каждый бард из Одессы мечтает записать пластинку с блатными песнями — в них слишком много очарования, которое сделало одесского бандита Беню Крика не просто заурядным одесским бандитом, а настоящим художником, родоначальником уголовной эстетики.
Актёр Николай Самошников неподражаемо изображал самоубийцу-музыканта, которого спасали, доставая из воды. Утёсов спрашивал: почему он это сделал? Тот рассказывал, что его никуда не берут на работу, а он хочет играть на кларнете.
— Как я вас понимаю, — сочувствовал ему Утёсов, — сам живу в контрабасе, и то тесно.
Потом Утёсов просил его сыграть что-нибудь — может быть, он возьмёт его на работу. После первых же душераздирающих звуков, которые издавал кларнет, музыканта молча брали за руки и за ноги, деловито несли к мосту и бросали обратно в воду. Возвращались и со слезами на глазах говорили:
— Фёдор Семёнович, что же мы наделали! Мы живого человека утопили.
— Ну и что? — невозмутимо спрашивает директор.
— А вдруг он выплывет?
Переезд Дунаевского и события в Кремле развивались параллельно. Повышенное внимание красных богов к музам объяснялся очень просто: это была последняя сфера влияния бывших партийных лидеров. По существу, стоял вопрос об окончательном и бесповоротном их уничтожении и сосредоточении всей громадной власти в руках Сталина. Бывший семинарист, понимавший толк в человеческих душах, правильно расценил: пока ниточки от "властителей дум" находились в руках Бухарина, Каменева, Зиновьева и иже с ними — у них оставался шанс на возвращение к власти. Соответственно его, Сталина, власть над думами людей была не полной. "Для писателей, режиссёров и прочей нечисти", по образному выражению Ахматовой, это означало конец "вегетарианской эпохи". Предстояла эпоха чисток, в которой побеждали любители свежего человеческого мяса, поставляемого лагерями. Всё было уже расписано.
… Ко всему смешному приложил руку композитор. Он сочинял музыку, и, как водится, музыка влияла на содержание. Дунаевский придумал, что Утёсов садится за рояль и начинает играть дикий "диссониррующий брэд". Утёсов должен был разговаривать голосом противного кокаиниста-джазиста, приехавшего покорять "рэсских дэвушек". Конферансье объявлял музыкальный номер: "Митинг в паровозном депо". В басах у Утёсова звучали паровозные гудки, в среднем регистре изображался шум работающих станков, а высокие тона на верхах представлял глас народа. Это великолепное музыкальное изобретение было данью формальной технике РАПМа.
После этого Утёсов плакал. Дирижёр оркестра прерывал концерт, всё было построено так, чтобы зритель подумал, будто у Утёсова реальное горе. Дирижёр спрашивал у артиста:
— Что с тобой, Костя?
Костя — Утёсов отвечал:
— Слона жалко.
— Какого слона?
— Из бивней которого палочки сделаны, — и Костя показывал на свои барабанные палочки. Дальше он говорил с непередаваемым акцентом:
— Представьте себе тропический "лэс", по нему идёт молодой "кэльтурный" слон. Вдруг бабах! Выстрелы. Слон "падаэт". Подбегают люди, вырезают из слона косточки, делают из них клавиши и потом на них такую дрянь играют! "Жэлко" слона, Фёдор Семёнович!
Это было только начало. Затем Дунаевский переделал на фокстротный лад арию из оперы "Садко" Римского-Корсакова, "Сердце красавицы" из "Риголетто" и некоторые мелодии из "Евгения Онегина". Всё складывалось удачно.
30 апреля 1932 года в жизни Исаака Дунаевского случилось грандиозное событие. У него родился сын, которого назвали Геничкой — Женей. Иудейский патриарх основал собственную династию. Машина времени сработала на одни пятёрки. Я помню этого мальчика с седыми волосами. Его уже давно нет с нами, но каждый раз, когда читаешь эти строки, он снова как будто предстаёт маленьким, только что родившимся у счастливого отца. Так трудно поверить, что его не стало. Он умер, сохраняя это восторженное ощущение сына гениального отца, живущего в тени его гения.
Каковы были ощущения Исаака? Они менялись во времени, но самое первое известно: это гордость и торжество победителя. Всё, что мы можем узнать по этому поводу, Дунаевский сообщил в письме поэту Лебедеву-Кумачу. Более полувека это письмо хранилось под спудом в архивных папках сына поэта, пока однажды он не нашёл его и не прочитал автору этих строк с такой гордостью, словно это случилось вчера.
"Сын у меня мировой. Вчера на улице он подошёл к одному гражданину, напевавшему марш из "Весёлых ребят", и строго заметил, что это "моего папы марш, не пой". Моему карапузу всего только три года. Это всё меня радует. И как композитору, и как отцу мне надо написать колыбельную, чтобы таким малюткам пели".
Если бы можно было бы найти такое поле, на котором собрались бы сто детей, чтобы один взрослый мог сыграть им такую колыбельную, от которой все сто бы уснули, таким человек мог бы быть Дунаевский, у которого было сердце, могущее вместить сто детей.
Рождение сына в корне изменило положение Исаака и по отношению к миру и к дому. Он вышел из пустыни, в которой его душа была бы обречена скитаться. Он заложил основы, выполнил главный закон — продолжение рода. Сразу многое стало ненужным, неважным. Это было очень важно в отношениях с Зинаидой Сергеевной.