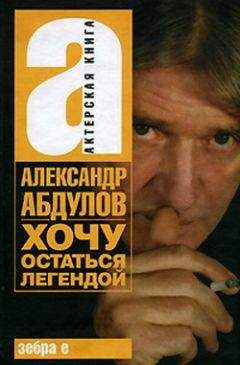После «Черной розы» Саша, мне кажется, поверил и мне.
В обыкновенной же жизни с утра до ночи Саша окружен десятками, сотнями людей. Записная книжка у него взбухла, перейдя все возможные пределы. Каждый сантиметр ее исписан во всех мыслимых направлениях. Я не знаю, с кем он только не знаком, каких только телефонов у него нет в этой, увы, недавно потерянной книжке? К кому в кабинет или в офис он не может открыть дверь, с кем не сумеет поговорить по делу и по душам? По моему наблюдению, таких людей нет.
И все это, как ни грустно, происходит, по-моему, при почти полном его человеческом одиночестве. Несмотря на всю его сверхобщительность, близких людей у него совсем немного. Из совсем близких, так, чтобы через всю жизнь и до конца, может быть только мама, брат… Еще жена Юля. Еще дочка Женя. Но даже и с ними, нежно им любимыми, тоже все совсем не просто. Мама иногда на него в обиде: ну почему это Саша вот такой везучий, а брат, который и старше, и не глупее?… А правда, почему? И у Саши по этому поводу иногда возникает неловкое, но тягостное ощущение какой-то неясной собственной вины… За что? Черт его знает. За дурное везение, что ли?…
Не раз наблюдал я и то, как кто-то нехорошо, корыстно пользуется Сашиной дружбой. И почти никогда Саша этого не замечает. Я, увы, вижу, но тоже предпочитаю молчать: не хочется лезть не в свои дела, да и понимаешь, что в сумерки вокруг лампы не бывает без мошкары. Это естественно. Хотя человек все-таки не лампа. Ему такое может быть обидно…
В последние годы среди бесчисленных Сашиных артистических ликов и личин сформировался еще один — на сегодняшний день, думаю, главный. Какое-то время назад Саша удивил меня рассказом о том, что зачем-то вдруг выкупил на личные деньги у Ленкома старый детский спектакль для утренников — «Бременские музыканты». Тут же врубив на всю катушку одному ему известный рубильник, он со страшной энергией стал возить этот спектакль по городам и весям. Начал с Москвы. Потом — Питер. Прокатился по России. Потом, слышу, Киев, Азербайджан, Ереван, Белоруссия — все как встарь, будто бы в СССР. Честно говоря, поначалу я подумал, что Саша просто нашел новую, вполне удачную и экономически зрелую форму «борьбы с нуждой» — так актеры называют многообразные типы своих халтур. По поводу приобретения «Бременских музыкантов» и Сашиной деятельности по внедрению их в сознание юного поколения реформенной России, я даже дал ему кликуху «Карабас-Барабас». Саша смеялся. Играть Карабаса-Барабаса ему определенно нравилось.
Однако следом за этой ролью мерещилась уже и другая. Саше давно уже ох как хотелось, я это видел, сыграть и роль кинорежиссера. Роль, я-то уж знаю, действительно впечатляющая, часто коронная. Саша не мог не видеть, с каким покоряющим талантом и поистине всенародным, а потом и всемирным эффектом перевоплотились в художественный образ кинорежиссеров великолепные до того актеры — Сергей Федорович Бондарчук и Никита Сергеевич Михалков. Когда он, в здравом уме и твердой памяти, а также и совершенно трезвый, сообщил мне, что намеревается дебютировать в кинорежиссуре, я не удивился. Но тут же был поражен тем, что для дебюта Саша выбрал тех же «Бременских музыкантов». Видя мои недоумевающие глаза, Саша, пытаясь объяснить замысел, стал почему-то пересказывать мне воображаемый фильм. Хорошо зная и сказку, и спектакль, и действительно замечательнейший мультфильм по сценарию Энтина и Ливанова, поначалу я практически пропускал его рассказ мимо ушей. Но Саша продолжал, как написали бы в литературе XIX века, «одушевляясь все более и более и при этом размахивая руками». На некоторых моментах рассказа я, даже против своей воли, вдруг почему-то стал сосредотачиваться, и в голове вполне объемно нарисовались какие-то вполне определенные и, к моему удивлению, очень даже нетривиальные, живые и по-своему прелестные картины.
— А давай еще расскажи, дальше. Ты чего-то очень правильное рассказываешь! — наконец начал с интересом подстегивать его рассказ и я. Что-то даже забормотал в порядке совета.
— Слушай, — сказал Саша, — я тебя прошу, сядь, напиши мне этот сценарий…
Долгое время это у меня не очень получалось. Месяца полтора вообще не мог написать ни строчки. Саша уже начал на меня тихо злиться, но ничего от этого не менялось. Тогда, отчаиваясь, Саша продолжал свои фантастические рассказы, вываливая передо мной огромное множество сцен, сценок, деталей, каких-то поначалу кажущихся незначительными подробностей характеров. С тем же неистовством, с каким ему хотелось прожить за одну свою жизнь тысячу артистических жизней, теперь, казалось, вместо одного фильма он хочет снять сто пятьдесят.
Среди этих обрушенных на меня в хаотическом беспорядке ста пятидесяти картин, самых разнообразных — талантливых и средних, блистательных, а иногда вдруг даже безвкусных, в моей голове постепенно все четче и яснее вычленялась одна, вдруг начавшая казаться довольно милой и грациозной. Когда именно эту картину я стал досочинять и записывать, вдруг возникло необходимое чувство абсолютной неслучайности приходящего в голову. Показалось, что среди всего бедлама нашей сегодняшней жизни, да и вообще космологического бедлама конца прошлого века и начала нынешнего, Саша со своими «Бременскими музыкантами» имеет шанс снять картину исключительно искреннюю, цельную, светлую, нежную. Про то, что лучше всего знает. Про то, каково быть на этом свете актером, про то, как актерство может преобразить унылый дисгармоничный мир в волшебную сказку, полную нешуточных душевных надежд. Можно даже сказать, что у Саши есть шанс снять своего рода актерское абдуловское «Зеркало» — разумеется, совсем не похожее на великое «Зеркало» Тарковского. Совсем другое, но свое. Конечно, если хватило бы сил и самодисциплины снять картину «правильно», то есть вдохновенно и при этом профессионально.
Одна из главных, на мой взгляд, черт зрелой режиссерской профессии — жесткая и суровая самодисциплина. Если в актерском деле почти не контролируемый поток ничем не ограниченной фантазии — необходимый элемент профессии, хотя бы только для строгого отбора вариантов режиссурой, то в режиссуре такой вот бесконтрольный «фантазийный фонтан» бывает просто губительным и даже гибельным. Тут необходимо трудное искусство аскетического, строгого воплощения замысла.
Сами же «Бременские музыканты», повторюсь, — удивительно точно найденная Сашей в безбрежном море лукавых разнообразностей ясная притча, естественная, ему родная, для него природная сказка о прекрасности актерского труда, несмотря ни на что. О том, в конце концов, что это сомнительнейшее каботинское дело не то придурков, не то отверженных, которых, повторю, считалось негоже даже и хоронить по-людски, по-христиански на кладбище, вдруг способно сделать множество людей хоть на какое-то время счастливыми, примирить непримиримое и даже в какой-то мере способствовать совершенству столь несовершенного мира. Добрая, прозрачная, изысканная сказка о счастье быть актером в конце жестокого, временами даже кошмарного века, в надежде на новый свет нового, вот сейчас на наших глазах нарождающегося века.