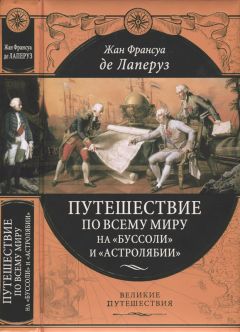челюстью, но от удара у него почему-то вывернулась нога, и он потом полтора месяца лежал
в больнице. Развитие событий было предсказуемо. Нападение на «своего» вор не вправе
оставить без последствий. Мне это очень хорошо известно. Но управлять собою в таких
случаях редко удается.
Утром я выхожу со своей бригадой к вахте. В стороне вижу группу воров и слышу, как один из них, то ли не видя меня, то ли, напротив, умышленно, чтобы меня завести, говорит так, чтобы всем было слышно:
– Что-то Туманов совсем развязался…
Я с трудом держу себя в руках, подхожу к ним и говорю Мишке Власову, по кличке
Слепой, одному из влиятельных в этом мире людей, с которым знаком еще по Широкому:
– Миша, посоветуй им, чтобы вели себя поумнее.
– Да ты успокойся, Вадим! С Мишей у меня были дружеские отношения. Он один из самых близких друзей Ивана
Львова, Васи Коржа, Петра Дьяка, Саши Мордвина, с которыми я полтора года просидел на Широком. Я не случайно перечислил вновь имена этих людей, входивших тогда как бы в «Центральный Комитет» уголовного мира. Их знали во всех лагерях Союза. Не знаю, как поговорил Слепой с ворами, но шума по этому случаю не было.
Сколько же страшных минут я пережил за восемь лагерных лет, когда вечером входил в барак и думал: а может, утром я не проснусь? Ведь каждую ночь кого-то калечили, вешали, убивали. Думаю, что такие мысли были знакомы большинству заключенных, тем более людям, имевшим большие сроки – несколько раз по 25 лет. Можно, конечно, и в лагере прожить тихо и незаметно, ни во что не вмешиваясь, ни на что особо не реагируя, как, например, спокойные люди, прошедшие в 30-е годы через Беломоро-Балтийский канал. Их с почтением называли старыми каторжниками или старыми бэбэковцами и шутили: когда тюрем еще не было, эти уже сидели в сараях на цепи.
Не утихла одна историй, как возникает новая: бригадир Строганов поругался с горным мастером Семеном Ковалем и кинулся на него с кулаками. У Строгановых интересная семья: два брата и отец сидели за бандитизм. Я вступился за мастера, ни в чем не повинно-i о. Через день к нам в барак вбегает кабардинец Володя Шуков:
– Вадим, Строганов идет с ножом, короче, пьяный!
Я схватил свою телогрейку. Вошел Строганов, держа в руках не нож, а заточенную
ромбическую пилу. И едва он приблизился, я накидываю телогрейку на пилу и бью его в голову. Пила вылетает m его рук. Набросились на него и другие бригадники. Избили так, что мне пришлось ребят оттаскивать от него. Если бы я этого не сделал – убили бы. Его выволокли на улицу полуживого.
Утром появляется оперуполномоченный Инчин. Он уже знал, что произошло:
– Туманов, если он умрет, придется заводить дело.
– А если не умрет? – спрашиваю я.
– Тогда какой же ты боксер?! По счастью, Строганов остался жив, но конец этой истории был омрачен не заставившими
себя ждать новыми событиями.
Одна смена нашей бригады, отработав, отдыхала в бараке, заступила вторая смена. Я люблю эти часы, когда ребята, выйдя из шахты, приведя себя в порядок, тихо ложатся спать. В другом углу секции режутся в карты. Я попросил играющих сдерживать свои эмоции. Ну как потише, когда играют в «очко». И опять – крики, споры, ругань. Повторив свою просьбу в третий или четвертый раз, я подхожу к ним, уже с трудом сдерживаясь:
– Вы не могли бы тише, видите – люди спят.
С нар поднимается вор из амгуньского этапа.
Впервые я увидел этот этап в Сусумане на КОЛПе. Человек шестьдесят, отбывавших срок в
амгуньских лагерях, привезли на Колыму и почему-то бросили в 17-й барак, где находились мы. Вернувшись в барак с работы, ничего не можем понять. Видим, что новые люди и ведут себя развязно. Нам говорят: этап с Амгуня. Я сажусь на свои нары и стягиваю сапоги. Слышу:
– Тут какие-то широкинские…
– А что тебе широкинские? – говорю я, не поднимая головы. Поверь, парень, они тебе могут показать, как нужно вести себя.
Амгунец взрывается:
– Мне? Да еще не родился человек, который коснется моей морды!
– А что ты сделаешь? – Я спокойно стягиваю второй сапог.
– А ты попробуй!
Широкинские насторожились.
– Что ты сказал? – поднимаюсь я.
– Кто коснется моей морды – убью! Мой удар валит его на пол.
– Во-о-ры! – зовет он на помощь. Из левого рукава комбинезона я выхватываю нож. Поворачиваюсь в сторону амгуньского
этапа:
– Так, твари, еще секунда – и будете выпрыгивать через окна.
Все широкинские были наготове.
Подхожу к упавшему:
– А ты, сука, не истеричничай! Убивать я тебя не буду. Просто перережу сухожилия, -
говорю я ему.
Ночью у амгуньских и широкинских воров шла сходка. Естественно, не спал весь барак. Утром меня просят зайти в сушилку – это большая комната, в которой сидели три десятка воров, амгуньские и наши. Я знал, что может возникнуть резня, но другого выхода нет.
Захожу. Посреди комнаты Анциферов.
– Ты ударил вора! – говорят мне.
– Нет, – отвечаю, – я ударил сволочь, которая ни с того ни с сего начала оскорблять людей, которых не знала.
Амгуньским ворам успели рассказать, кто я такой и что со мной нужно вести себя иначе. Теперь необходимо было этот инцидент сгладить. А амгуньцы стоят на своем: все-таки ударили вора. Хотя – какой он вор? Только прибыл с этапа, трюмиловок не проходил, ничего еще не видел.
– Вы чего хотите, парни? – обращаюсь я к амгуньцам. – Чтобы он тоже ударил меня по
лицу и мы были бы квиты? Но вот этого не будет.
На следующий день пришел новый этап. В нем оказалось много моих друзей по прежним лагерям, в том числе Мотька – Модест Иванов, с которым мы были в первые колымские годы на Новом, а потом во многих штрафных лагерях. В числе нескольких воров в Западном управлении Мотька прошел весь ад трюмиловок и, несмотря ни на что, остался вором. Он в довольно резкой форме высказал амгуньцам очень многое и вторично ударил того же Анциферова. Инцидент был исчерпан.
И вот на Челбанье, в ответ на мою просьбу играть в карты потише, дать отдохнуть ребятам, снова поднимается один из амгуньцев, теперь уже работающий в комендатуре. У меня, как всегда, на всякий случай (такая была жизнь' – кто первый успеет) в левой руке нож. Хотя злость переполняла меня, убивать его я не хотел, но, предупреждая его удар, слегка ткнул ножом, на самом деле слегка, чтобы дать ему почувствовать холод металла. Держась за рану, он попятился назад:
– Вадим, извини, я столько о тебе хорошего слышал…
– Больше никогда обо мне ничего не слушай, – говорю я. – И веди себя нормально, сука, понял? Теперь, когда увидишь меня, идущего навстречу, говори мне «здравствуй» и улыбайся. Понял?
Когда я успокоился, мне стало стыдно за то, что я наговорил.