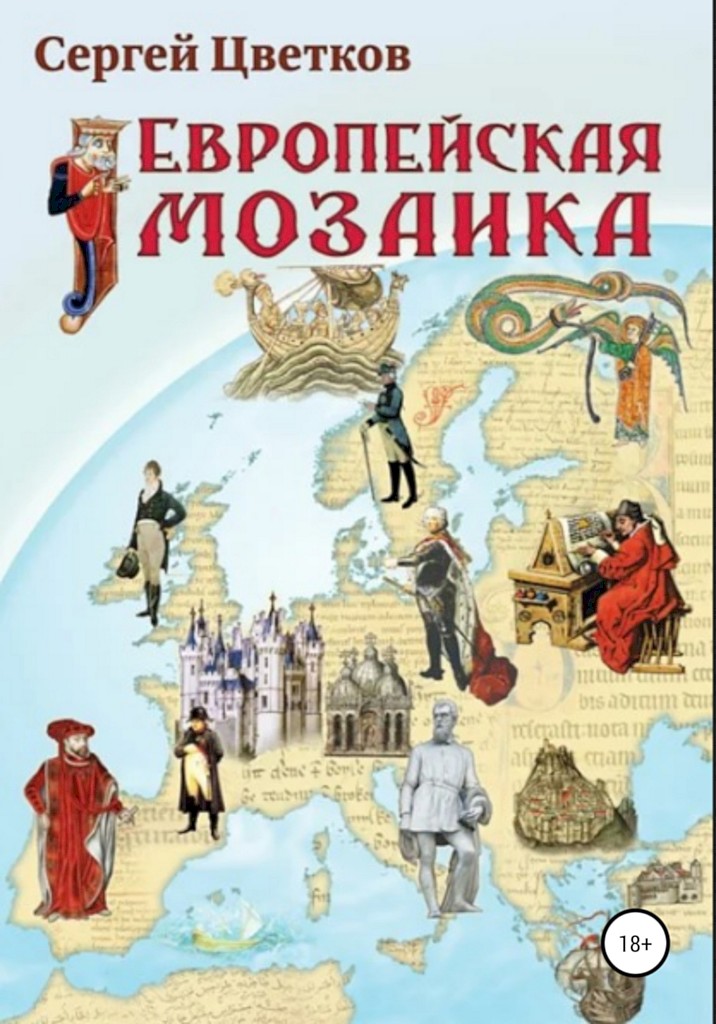в царстве мертвых»; несомненно также, что названные авторы, равно как и позднеантичные комментаторы и компиляторы, не стали бы злоупотреблять по отношению к герою этой истории легкомысленными выражениями вроде «безвременная кончина» и «трагическая случайность», как это сделали коллеги профессора Якоба Миллера, посвятившие ему в начале августа 1914 года несколько некрологов в ряде немецких и швейцарских газет. В свою очередь, я не вполне уверен в своем праве называть историей события, связанные, по-видимому, лишь временной последовательностью.
Начать, наверное, следует с ноября 1912 года, когда профессор классической филологии Базельского университета Якоб Миллер — автор небезызвестных широкой публике книг «Политеизм у греков» (1898) и «Страдающие боги в языческих религиях» (1907) — невольно обратил внимание на многочисленные не по сезону толпы иностранцев, тревожившие своими возбужденными восклицаниями тихие кафе и улицы города. Нетрудно было догадаться, что речь между ними идет о политике. Заглянув в газеты, Миллер узнал, что в Базеле проводит съезд какой-то II Интернационал, предупреждающий пролетариат Европы об угрозе империалистической войны. Упоминание о войне вызвало у него недоумение и грусть. Всякое проявление грубой силы было ему npoтивно, к тому же, по его мнению, современный этап paзвития христианской цивилизации уничтожил все разумные причины и поводы для военного конфликта между культурными нациями. Правда, будучи истинным гражданином своей страны, Миллер недолюбливал государства с многомиллионным населением и испытывал инстинктивное недоверие к разумности их общественного устройства и политических устремлений. Всем разговорам о социальных реформах и системе европейской безопасности он втайне предпочитал совет Аристотеля: «Сделайте так, чтобы число граждан не превышало десяти тысяч, иначе они не будут в состоянии собираться на публичной площади». Германия менее других европейских стран пробуждала его симпатии. Миллер хорошо знал и с удовольствием посещал Флоренцию, Венецию, Афины; в Берлин или Лейпциг он ездил неохотно и только по делам. Труды своих немецких коллег он ценил не очень высоко; перспектива германизации Европы ужасала его.
После лекций он поделился своими тревогами с профессором Готфридом Герсдорфом, медиевистом. Герсдорф был немец, что не мешало Миллеру в течение последних семи лет (с тех пор, как они сошлись) предпочитать его беседу любой другой. Их тревожили одни и те же вопросы: каким путем пойдет дальше культура, сумеет ли Европа сохранить и передать будущему хрупкую и столь часто искажаемую красоту, завещанную ей Аттикой и Тосканой?
Они поднялись на облюбованную туристами террасу между красным каменным собором и Рейном. Простое, ничем не примечательное здание университета находилось совсем близко, на склоне между музеем и рекой. Глядя вниз, на холодные волны реки, еще недалекой от верховья, но уже полноводной и шумной, Герсдорф сказал:
— Как человек я разделяю ваше отвращение к войне, но как мыслитель я не могу не признать, что война будит человеческую энергию, тревожит уснувшие умы, заставляет искать цели этой и без того слишком жестокой жизни в царстве мужественной красоты и чувстве долга. Лирические поэты и мудрецы, не понятые и отвергнутые толпой в годы мира, побеждают и привлекают людей в годы войны: люди нуждаются в них и сознаются в этой нужде. Необходимость идти за вождем заставляет их прислушиваться к голосу гения. Только война способна пробудить в человечестве стремление к героическому и высокому. Может быть, будущая война преобразит прежнюю Германию. Я вижу ее в своих мечтах более мужественной, обладающей более тонким вкусом.
— Нет, — отвечал Миллер, — вы все время думаете о греках и итальянцах, в характере которых война действительно воспитывала добродетель. Но современные войны слишком поверхностны и потому бессильны нарушить рутину буржуазного существования. Они случаются слишком редко, впечатление от них быстро сглаживается, мысли людей не останавливаются на них. Ужас и страдания, причиняемые ими, носят слишком животный характер, чтобы высокоразвитая философия или искусство могли извлечь из них что-то новое, что-то ценное.
— И все же, — сказал Герсдорф, — я смотрю в будущее с надеждой: мне кажется, я вижу в нем черты видоизмененного средневековья. — Затем, немного помолчав, он предложил Миллеру провести этот вечер у него, поскольку он «ожидает сегодня нескольких своих друзей», и в их числе Поля де Сен-Лорана, возвращающегося в Париж из поездки по Греции и Италии.
Имя этого сравнительно малоизвестного французского критика Миллеру было знакомо. Его фельетоны, разбросанные по страницам «La Press», «Journal de Debat» и некоторых других парижских изданий, производили на Миллера странное впечатление. Критический метод Сен-Лорана казался ему причудливым до извращенности, совершенно непозволительным для исследователя распутством мысли. Сен-Лоран совершенно пренебрегал логическими доводами. Казалось, что говоря о каком-нибудь авторе или отдельной книге, он старался вначале составить себе о них общее впечатление, которое потом воспроизводил образами, картинами, красочными и пышными уподоблениями, размышлениями, критическими отступлениями и сплошь да рядом просто красноречивыми восклицаниями. Его стиль раньше утомлял глаза, чем мозг, и, однако, Миллер испытывал при чтении его фельетонов некое одурманивающее наслаждение. В руке Сен-Лорана перо превращалось в кисть живописца, которой он пользовался умело и порою блестяще. Античность и Ренессанс, религия и философия, боги и люди, бесчисленные и многообразные образы прошлого получали свое чеканное отображение в статьях этого взыскательного эстета, небрежно рассыпавшего их по страницам газет и журналов, где они соседствовали с объявлениями и политическими пасквилями. Его произведения напоминали Миллеру кабинет редкостей или залы Лувра, а сам Сен-Лоран представлялся ему каталогизатором, перебирающим холодными, бесстрастными пальцами драгоценные камни разных эпох.
На деле Сен-Лоран оказался весьма живым, артистически растрепанным молодым человеком, похожим в своем сияющем беспорядке на вдохновенных юношей с полотен Ренессанса. Он говорил только о Греции и Италии. Сообщая всем свои литературные планы, он поведал о дерзком желании описать метопы [100] Парфенона и с отчаянием жаловался, что во французском языке нет слов достаточно священных, чтобы описать эти торсы, «в которых божественность пульсирует подобно крови». «О Парфенон! Парфенон! — повторил он несколько раз. — Это слово преисполняет меня ужасом Священных Рощ!» Затем он обрушился на христианство, «одевшее в монашескую сутану мир, который во времена древних греков был ярким, красочным и полным жизненных соков».
— Боги Олимпа вечно юны, прекрасны и жизнерадостны! — с жаром восклицал Сен-Лоран. — Когда я произношу их имена — Аполлон, Венера, Пан, — перед моим взором встает ясный полдень, гиацинты и фиалки на склонах холмов, я слышу журчанье прозрачного ручья и смех загорелых юношей и девушек, купающихся в холодных водах горной речки. Но вот приходит Христос… И тут оказывается, что мир полон больных, нищих, убогих, отовсюду тянущих к радостной юности свои иссохшие, покрытые язвами и проказой руки, чтобы оборвать ее смех и заставить ее видеть только их, думать только о них…