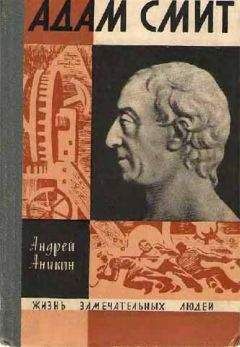Кенэ делал прогрессивные выводы и для экономической политики.
С немного наивной хитростью он, на словах похваливая феодалов-землевладельцев, на деле предлагал подорвать их экономические позиции: заменить все налоги «единым налогом» на земельную ренту, так как рента, доход землевладельца, — единственный подлинно чистый доход общества. Из него и должно черпать государство!
Подобно Смиту и Тюрго, он считал, что при сохранении земельной собственности феодалов лучшая форма земледелия — крупные фермерские хозяйства с долгосрочной арендой земли и умеренной рентой.
Подобно им, Кенэ выступал за экономическую свободу, против стеснений внешней и внутренней торговли, ограничений купли-продажи земли, за ликвидацию феодальных оков, надетых на «естественного человека».
Таковы были главные идеи доктора. Снаружи они не были революционны и не вызывали поэтому опасений у властей. Первое издание Экономической таблицы отпечатал на ручном станке сам король: Кенэ рекомендовал ему физические упражнения.
(Но когда Тюрго, ставший в 1774 году министром, попытался осуществить на практике лишь малую долю этих идей, он продержался на своем посту только 20 месяцев! Против него сплотились все силы старого порядка: дворянство, духовенство, налоговые откупщики, верхушка цеховой буржуазии. И он пал под ликующие крики врагов.)
Доктор Кенэ в первое время проповедовал свои идеи не столько в печати, сколько в кругу друзей, собиравшихся на его антресолях. У него появились ученики и единомышленники, появились, конечно, и несогласные.
Мармонтель оставил живое описание собраний у Кенэ:
«В то время как под антресолями Кенэ собирались и рассеивались бури, он усердно трудился над своими аксиомами и расчетами по экономике земледелия, столь же спокойный и безразличный к движениям двора, как будто он находился в ста лье от него. Внизу толковали о мире и войне, о назначении генералов и отставке министров, а мы на антресолях рассуждали о земледелии и исчисляли чистый продукт, а иногда весело обедали в обществе Дидро, д'Аламбера, Дюкло[41], Гельвеция, Тюрго, Бюффона. И мадам де Помпадур, не будучи в состоянии привлечь эту компанию философов в свой салон, сама порой поднималась наверх, чтобы повидать их за столом и поговорить с ними».
По словам д'Аламбера, Кенэ был «философ при дворе, который жил в уединении и трудах, не зная языка страны[42] и не стремясь его изучить, будучи мало связан с ее обитателями; он был судья столь же просвещенный, сколь беспристрастный, совершенно свободный от всего, что он слышал и видел вокруг себя…»
Свое влияние на маркизу и на самого короля Кенэ использовал в интересах дела, которому он был теперь предан. Он содействовал (вместе с Тюрго) некоторому смягчению законодательства, устраивал издание сочинений своих единомышленников, а для Лемерсье добился назначения на крупный пост, где тот попытался провести первый физиократический эксперимент.
Смерть мадам Помпадур в 1764 году несколько подорвала позиции экономистов. Но Кенэ оставался лейб-медиком короля, который по-прежнему благоволил к нему и называл «мой мыслитель».
Читали ли вы роман Лиона Фейхтвангера «Лисы в винограднике»? Действие его происходит, примерно через десять лет после описываемых событий — в 1776–1778 годах; среди действующих лиц Тюрго, мадам Гельвеций, Морелле. Вот главная философская идея этого романа: в мире действует историческая закономерность, и самые разные люди способствуют ее осуществлению — часто вопреки своей воле и интересам. Это вспоминается, когда читаешь о физиократах, об их идеях, в конечном счете подрывавших старый порядок, и о покровительстве, которым они пользовались у деятелей этого самого старого порядка.
«После нас хоть потоп», — говорил Людовик XV и развлекался. Иной раз развлекался визитом в пресловутый Олений парк, где еще при жизни маркизы возник королевский гарем; в другой раз — печатанием странных сочинений этого безобидного чудака — доктора Кенэ…
Когда Смит узнал этого удивительного человека, Кенэ было 72 года.
Низкорослый, коренастый, сутулый, он был похож на старое корявое дерево. Сидя за столом, доктор держал руки ладонями вниз, так что были видны узловатые, изувеченные подагрой пальцы. Давно уже он не мог держать в них перо и обычно работал с секретарем.
Одет он был почти всегда в один и тот же плотный синий кафтан, из-под которого виднелось дорогое кружевное жабо, как думалось Смиту, не первой свежести.
Новому человеку могло сначала показаться, что перед ним глубокий старик. Но, приглядевшись в полумраке, который всегда царил в комнате, к его лицу и тем более послушав его, гость менял мнение.
На смуглом, непудреном лице было до странности мало морщин, время от времени в улыбке открывались крепкие желтые зубы. Глаза смотрели живо, даже задорно.
Квартира у Кенэ была маленькая и не слишком удобная (правда, во дворце даже большие вельможи довольствовались скромными помещениями). Единственная низкая полутемная комната с двумя оконцами, выходившими во внутренний двор, служила ему и спальней, и кабинетом, и гостиной. В углу у окна стоял большой письменный стол, в середине комнаты — овальный обеденный, человек на восемь-десять, не более. Свободная боковая стена была почти сплошь занята книгами. Кровать отделялась выцветшим шитым пологом.
Поднявшись по узкой и не очень чистой лестнице, гость попадал в почти совсем темную прихожую. Там он не без труда освобождался от верхней одежды при помощи единственного слуги доктора, который на вид был не моложе господина. Дверь из прихожей вела прямо в комнату. К ней сбоку примыкал чулан, где жил слуга. Пищу он приносил снизу: в королевской кухне для доктора готовили отдельно, по его указаниям и рецептам. Когда у хозяина были гости, старик звал себе в помощь двух или трех лакеев.
Все это было любопытно и даже трогательно.
Несмотря на тесноту, у доктора, часто жил кто-нибудь из учеников и друзей. Молчаливого Лемерсье, который уехал в деревню заканчивать свою книгу (доктор пророчил ей славу «Духа законов» Монтескье), сменил Дюпон.
Мирабо выражал свое поклонение мэтру с какой-то странной экзальтацией, и это было неприятно. Лемерсье оставался в рамках почтительного уважения. Но 26-летний Дюпон был явно любимым учеником и умел это ценить. Он выглядел здесь как хороший сын, надежда отца. Смит слышал однажды, как доктор говорил маркизу Мирабо: «Давайте пестовать этого молодого человека: он будет говорить, когда нас давно не будет на свете».
Тюрго относился к Кенэ с величайшим уважением и грозно хмурился, когда в салонах слышал слишком едкие насмешки над стариком. Но в антресольном клубе он часто не соглашался и спорил с ним. При этом он, однако, старался слегка смягчать свою обычную суровую манеру.