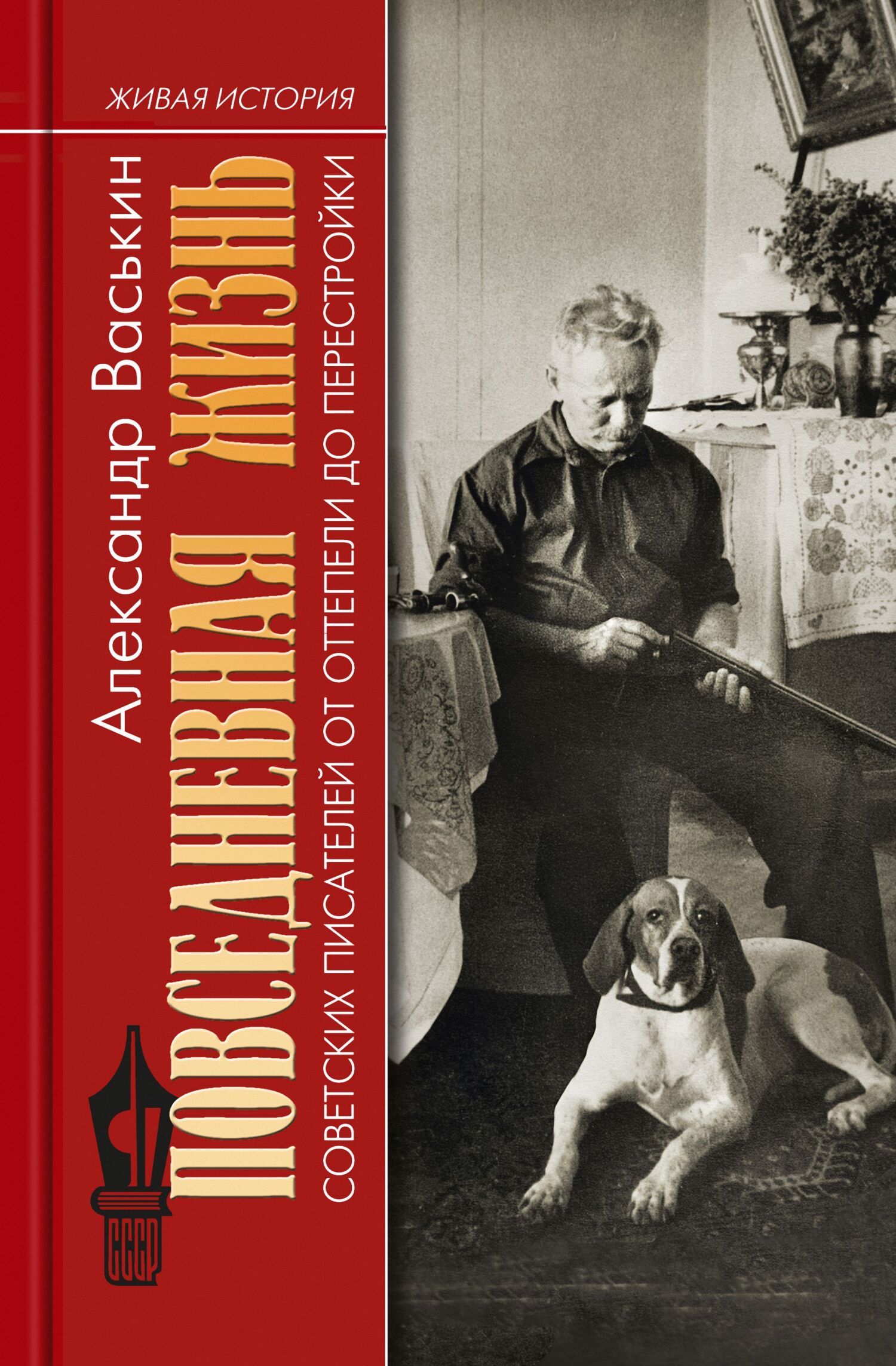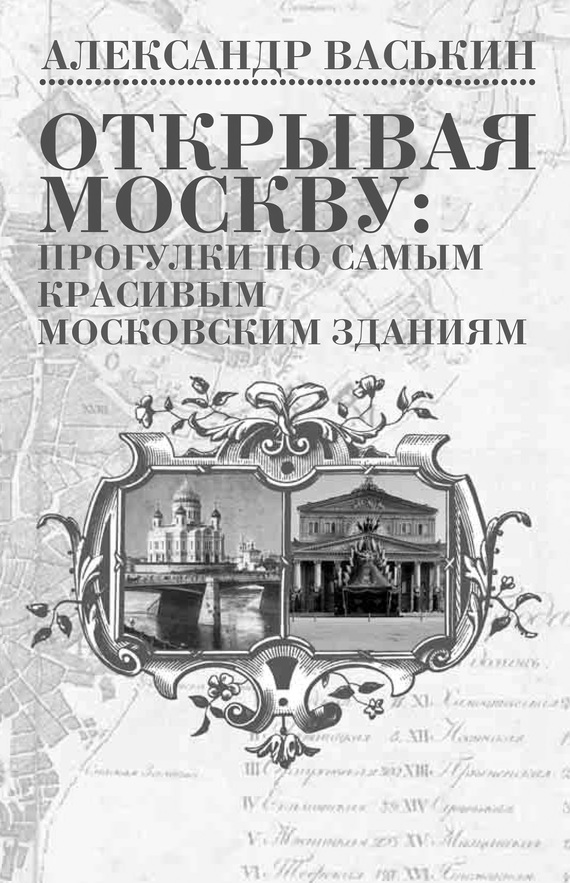недалеком будущем, писатели не забывали поздравить Ротницкого с праздниками, будь то Новый год или Первомай, отмечали его юбилеи банкетами в ЦДЛ. Михаил Светлов прочитал по этому поводу стихотворение:
Пусть он нашей лаской в зимний день согреется,
Мы его душевным словом наградим.
Ведь у нас писателей множество имеется,
А Ротницкий Арий – он у нас один.
Личность гробовщика нашла свое отражение и в писательском фольклоре. Михаилу Светлову приписывают такую шутку. Называя Ротницкого «Колумбарием Давыдычем», он как-то сказал: «Каждый из нас споет арию Давыдыча!» Как-то Светлов пришел к нему с просьбой: «Сколько стоят мои похороны?» Арий долго жался, ссылаясь на некорректность вопроса, ему было неудобно признаться в том, что он давно уже все посчитал: «Михаил Аркадьевич, за десять похороним!» Светлов попросил отдать ему половину: «А похоронишь меня на оставшиеся пять тысяч». Но ничего не вышло: Ротницкий не знал, как это оформить в бухгалтерии.
Шутки Светлова прославили его не меньше, а может и больше, нежели его стихи. Причем чувства юмора он не терял никогда – оно сопутствовало ему до последних минут жизни. «Принесите пива, рак у меня есть», – горько острил Михаил Аркадьевич. А Давид Самойлов запомнил свою последнюю встречу с ним в ЦДЛ: «Он только что из больницы. Странно изменились волосы – они светились старческим пухом. Может быть, так падал свет. Он похудел, хотя худеть ему как будто было некуда.
– Старик, – сказал он, – знаете, что такое смерть? Это присоединение к большинству.
Острил до последнего. В этом не изменился» {228}.
Случай со Светловым Николай Старшинов расценивает как доказательство отсутствия у Ротницкого чувства юмора, но Константин Ваншенкин утверждает прямо противоположное: Арий Давыдович любил пошутить по поводу своих будущих клиентов: «Фадеев при мне рассказывал на секретариате, как к нему на днях явился Арий Давидович и взволнованно сообщил, что ему удалось выбить несколько прекрасных мест на Ваганьковском, но, чтобы их не перехватили, было бы неплохо побыстрее их занять.
– Своими людьми! – хохотал Фадеев, характерно закидывая голову.
Фадеев был еще молод. Арий Давидович иногда позволял себе пошутить:
– Вот похороню Александра Александровича, это будет моя лебединая песня.
Увы, после Фадеева он проводил еще очень многих» {229}.
Как «выдающегося специалиста, энтузиаста и гурмана своего почтенного дела» запомнил Ария Давыдовича поэт Игорь Губерман. Тещей его была Лидия Лебединская, к которой Ротницкий обратился со следующим призывом: «Лидия Борисовна, умирайте, пока я жив, и вас хоть похоронят по-человечески». А о Светлове сказал: «Я когда любого писателя хороню, то непременно один венок из кучи забираю тихо, отнести чтоб на могилу Светлова. И писателю приятно…» {230} Как всякий гробовщик, Арий Давыдович в душе оставался философом, в мозгу которого рождались парадоксальные мысли. Например, такая: есть люди, которые даже на похоронах норовят быть главнее покойника. С этим трудно не согласиться.
Юрию Нагибину Ротницкий запомнился поведением на похоронах Андрея Платонова в январе 1951 года: «Когда комья земли стали уже неслышно падать в могилу, к ограде продрался Арий Давыдович и неловким, бабьим жестом запустил в могилу комком земли. Его неловкий жест на миг обрел значительность символа: последний комок грязи, брошенный в Платонова». После чего, «наглядевшись на эти самые пристойные, какие только могут быть похороны», Юрий Маркович дал себе слово «никогда не умирать…» {231}. Обещание серьезное, нечего сказать, а главное, трудновыполнимое.
Платонова похоронили в Москве на Армянском кладбище, что не давало покоя Нагибину: «Этого самого русского человека хоронили на Армянском кладбище. Мы шли мимо скучных надгробий с именами каких-то Еврезянов, Абрамянов, Акопянов, Мкртчанов, о которых мы знали только то, что они умерли. Украшение похорон, Твардовский, – присутствие которого льстило всем провожающим Платонова в последний путь, – то ли изображая пытливого художника, то ли от крайней неинтеллигентности, которой всё внове, с вдумчивым уважением разглядывал безвкусные статуэтки на могилах наиболее состоятельных Еврезянов и Акопянов». Нагибин употребил необычный эпитет по отношению к Твардовскому – «украшение похорон». И хотя Александр Трифонович, следуя логике Ротницкого, вряд ли хотел быть «главнее покойника», но в данном случае он действительно оказался центром притяжения внимания немноголюдной общественности. Получается, что, как и свадьбе (где нужен свой генерал), на похоронах приветствуется хотя бы адмирал.
Примечательно, что Ротницкий был бессребреником. Жил в коммунальной квартире, страдая от докучливых соседей: «У меня трагедия была такая, что все меня просили, а я никого не мог просить, мне не хватало никогда духа что-нибудь попросить для себя. Вот я и остался в этой комнате» {232}. Жаловался Арий Давыдович на свои скудные жилищные условия уже после почетной отставки. На пенсию он вышел в очень солидном возрасте, до которого многие его бывшие клиенты не дожили. Губерман пишет, что Ротницкий «вскоре умер без любимого дела». Но это не так. Не забывали заслуженного ветерана похоронных дел и потом. Когда в 1979 году после тяжелой болезни ушел из жизни Константин Симонов, Ротницкого призвали на помощь, ибо заступившая ему на смену молодежь с такой ответственной задачей не справлялась. Видно, не было увлеченности порученным делом. В феврале 1975 года в Литфонд на должность старшего инспектора сектора лечебно-бытового обслуживания московских писателей был принят поэт Борис Камянов. Вот что он рассказывает:
«На смену Ротницкому пришел Лев Наумович Качер – крепкий мужичок средних лет, бойкий, деловой и расторопный, но вскоре выяснилось, что нестарый здоровяк Качер не справляется с объемом работы, которую исполнял престарелый и больной Арий Давыдович. Тот успевал и хоронить писателей, и организовывать изготовление и установку памятников на их могилах, а Качера на все это никак не хватало. И тогда администрация решила разделить его обязанности на двоих и подыскать ему в помощь нового сотрудника. Не помню уж, кто рекомендовал меня литфондовскому начальству и сыграл ли в этом деле роль мой кладбищенский опыт, но в начале 1975 года к Качеру присоединился еще один еврей – я, твердо решившийся на отъезд и все еще нуждавшийся в деньгах, – а работа обещала быть хлебной. Похороны были теперь целиком в ведении Лёвы, а я занялся памятниками. Бывали, правда, случаи, когда нам с Качером приходилось по разным причинам подменять друг друга, но это было исключением из правила» {233}.
Ну а как оценивали писателей в Литфонде и когда наступал момент истины? О существовании негласной табели о рангах, в соответствии с которой семьям покинувших сей мир литераторов выделяли деньги в Литфонде, пишет Борис Камянов: «Минимум, на который они могли рассчитывать, составлял триста рублей, потолок – несколько тысяч. Если они готовы были доложить и свои сбережения, вариантов, естественно, становилось больше. Когда все ограничивалось установкой мраморной доски с фотографией