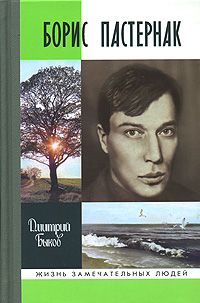Здесь, правда, лишь намеком вводится мотив эротический, впрочем, для автора «Фаустовского цикла», вошедшего в «Темы и варьяции», этого должно было быть достаточно.
Еще ближе по времени к Пастернаку шестистопный хорей «эксплуатировал» И. Северянин. В его «Пляске Мая» (1910) с «Воробьевыми горами» могут быть сопоставлены все те же народный праздник, «народная» эротика («беспопья свадьба»), удаленность от города («от фабрик», «от станций»), «тальянка» с «ревом гармоник» и, наконец, «солнце и любовь» над миром.
В могиле мрак, в объятьях рай,
Любовь – земли услада!..
Ал. Будищев
Вдалеке от фабрик, вдалеке от станций,
Не в лесу дремучем, но и не в селе —
Старая плотина, на плотине танцы,
В танцах поселяне, все навеселе.
Покупают парни у торговки дули,
Тыквенное семя, карие рожки.
Тут беспопья свадьба, там кого-то вздули,
Шепоты да взвизги, песни да смешки.
Точно гуд пчелиный – гутор на полянке:
«Любишь ли, Акуля?» – «Дьявол, не замай!..»
И под звуки шустрой, удалой тальянки
Май пошел вприсядку в шапке набекрень.
Но не видят люди молодого Мая,
Чувствуют душою близость удальца,
Весела деревня, смутно понимая,
Что царевич бросит в пляске два кольца.
Кто поднимет кольца – жизнь тому забава!
Упоенье жизнью не для медных лбов!
Слава Маю, слава! Слава Маю, слава!
Да царят над миром Солнце и Любовь!
Наполненная чисто северянинской стилизованной эротикой «Тринадцатая» (1910) также может быть соотнесена с «Воробьевыми горами».
У меня дворец двенадцатиэтажный,
У меня принцесса в каждом этаже.
Подглядел-подслушал как-то вихрь протяжный,
(Вспомним Мея и «бурун». – К.П.)
И об этом знает целый свет уже.
<…>
Все мои принцессы – любящие жены,
Я, их повелитель, любящий их муж.
Знойным поцелуем груди их прожжены,
(См.: грудь под поцелуи.)
И в каскады слиты ручейки их душ.
(См.: как под рукомойник.)
<…>
День и ночь хожу я, день и ночь не сплю я,
В упоеньи мигом некогда тужить.
Жизнь – от поцелуев, жизнь до поцелуя,
Вечное забвенье не дает мне жить.
Но бывают ночи: заберусь на башню,
Заберусь один в тринадцатый этаж,
И смотрю на море, и смотрю на пашню,
И чарует греза все одна и та ж:
Хорошо бы в этой комнате стеклянной
Пить златистогрезый черный виноград
(Вспомним фамилию героини Пастернака. – К.П.)
С вечно-безымянной, странно так желанной,
Той, кого не знаю и узнать не рад.
Скалы молят звезды, звезды молят скалы,
(Ср.: служат сосны.)
Смутно понимая тайну скал и звезд,
Наполняю соком и душой бокалы
(Ср.: выпень душу.)
И провозглашаю безответный тост!..
Несомненно, Пастернаку было памятно еще одно стихотворение, автор которого использовал в том числе и шестистопный хорей. В «Любви» Маяковского мы находим и «рельсы», и «ветряную мазурку» (напоминающую одновременно и вихри с бурями, и рев гармоник Пастернака), и «поцелуи», «груди», «дождь» – все, что мы прослеживали у Мея, Надсона и Северянина. Есть здесь и противопоставление природы – города, есть, возможно, и «нечисть» – «рыжеватый кто-то»:
Девушка пугливо куталась в болото, ширились
зловеще лягушечьи мотивы, в рельсах
колебался рыжеватый кто-то, укорно в буклях
проходили локомотивы.
В облачные пары сквозь солнечный угар
врезалось бешенство ветряной мазурки, и вот я
– озноенный июльский тротуар – а женщина
поцелуи бросает, как окурки.
Бросьте города, глупые люди!
Идите, голые, лить на солнцепеке пьяные вина
в меха-груди, дождя поцелуи в угли-щеки.
Попробуем объяснить причину обращения Пастернака к традиции шестистопного цезурного хорея, сформированной Меем – Некрасовым – Майковым – Полонским и продолженной Надсоном, Северяниным и Маяковским. Вероятно, для автора было существенным соединение в ней мотивов эротики, народного праздника и противоположения старости – молодости. Эти мотивы, в свою очередь, в народной культуре оказываются связанными с празднованием Троицы – празднованием, в котором на протяжении многовековой истории европейской культуры сплелись «высокое» христианское значение («сошествие» на апостолов способности проповедовать истину непосвященным) с «низким» языческим праздником начала лета, молодого разгула и прочее. Это сплетение традиций «книжной поэзии» и фольклора, высокого религиозного смысла и «природных» языческих обрядов как нельзя лучше соответствовало задаче занять центральное место в книге стихов, посвященных лету любви и лету социальной революции, книге стихов, где природа, человеческая жизнь и поэзия соединялись в нерасторжимое единство. Революция многими единомышленниками Пастернака летом 1917 года воспринималась как праздник, праздник разрушения границ между народной культурой, устремляющейся, прорывающейся снизу вверх, и культурой высокой, которая должна быть открыта не только художникам, интеллектуалам, но всем людям, а одновременно и природе – реке, пруду, деревьям. Вспомним пастернаковские слова о революции, когда митингующими у него оказывались деревья. Революция идет и сверху – от интеллигенции, и снизу – от народных бунтов, от того, что всегда существовало в природе: мир всегда таков, так задуман чащей, так внушен поляне. Уход из города в природу (соответствует ему и сюжет «Сестры моей – жизни» – отъезды из Москвы в степь), где «служат сосны», также логичен, если революция воспринимается как возврат к естественному порядку устройства мира.
О нескольких возможных источниках романа «Доктор Живаго»
Художественный язык пастернаковского романа опирается на весьма разнообразные литературные традиции. Многие элементы этого языка – от отдельных образов и мотивов до поворотов сюжета и мелких эпизодов восходят к самым различным источникам – от «Капитанской дочки» до «Смерти Ивана Ильича», «Простого, как мычание» и «Двенадцати», от Евангелия до диккенсовской «Повести о двух городах», «Снежной королевы» Андерсена и т. д. Выявлению интертекстуальных связей романа посвящено множество содержательных исследований.
Многие эпизоды и образы романа, как это достаточно часто бывает в модернистской литературе вообще и как было у Пастернака в других произведениях в частности, восходят одновременно к нескольким несхожим источникам. Более того, литературный источник может сплетаться с источником «биографическим». Так, в недавней работе О. Лекманова проводятся убедительные параллели между причинами болезни и смерти Анны Ивановны Громеко и толстовской «Смертью Ивана Ильича», что не отменяет очевидной связи истории ее болезни и смерти с историей Александры Николаевны Лурье – матери первой жены Пастернака Евгении Владимировны, чье падение со шкафа в 1924 году (см.: «Существованья ткань сквозная…», с. 127) стало причиной ее мучительной болезни и смерти в 1928 году.