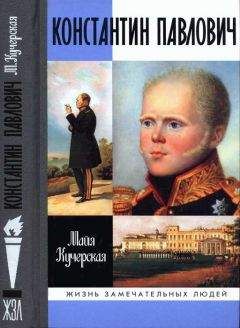Потом приказал мне командовать: «Налево кругом» – и выстроить фронт; и когда они обращены были лицом к государю, то он благодарил меня и гг. офицеров, бывших во фронте; но так как не все офицеры того стоили, то я остановил государя и сказал ему, что не все стоят его благодарности и о достойных подал ему список, который у меня припасен был; причем доложил ему, что я, именем его, одного унтер-офицера произвел в прапорщики. Государь спросил «За что? и когда?» – я доложил, что за предложение пробиться с 30 человеками на штыках со знаменем и денежным ящиком в город. Его величество, подозвав к себе Перекопаева, поцеловал его и утвердил.
После, вышед из экзерциргауза, поехал на гауптвахту, где поздоровался с поселянами, стоявшими на часах с косами вместо ружей, ибо резервный баталион я сменил, по приказанию графа Орлова, чтоб приготовить к выступлению в Новгород. Там на гауптвахте я представил арестантов, кои не послушались выпускавших их военных поселян. Государь благодарил их, и после они оставлены были без наказания.
От гауптвахты государь поехал в Новгород; приехав туда, был в церкви Св. Николая Качанова.
По отбытии государя из округа я отслужил с поселянами благодарственный молебен и распустил их по домам, а сам поехал в Новгород, где еще раз видел государя.
На другой день государь делал смотр всем резервным баталионам в Новгороде и приказал отправить их в Гатчину. В ночи на 27-е число государь отправился обратно в Петербург, получив уведомление, что государыня почувствовала приближение родов.
Если внимательно вчитаться в рассказ Панаева, то станет ясно, что уверенный в своем гипнотическом воздействии на возбужденную толпу Николай едва не просчитался, и просчет этот мог стоить ему жизни.
То, что, прочитав на лице Панаева «смущение», граничившее с ужасом, Николай тут же отказался от требования выдачи зачинщиков и согласился вкусить хлеб, от которого только что грозно отказался, свидетельствует, что он понял страшную опасность момента…
Историки уже отмечали странную судьбу подполковника Панаева, которому удалось притушить бунт еще до прибытия императора с войсками. Казалось бы, он мог рассчитывать на незаурядную карьеру. Ничего подобного. В тот момент он был произведен в полковники, а затем на всю жизнь застрял в генерал-майорах.
Объясняется это, конечно же, тем, что он оказался свидетелем мучительной для Николая сцены, когда ему пришлось пойти на попятный, фактически стушеваться перед бунтовщиками и ретироваться, не добившись исполнения своего требования. И Николай не простил Панаеву зрелища собственного унижения.
Фраза, обращенная к поселянам: «Конечно, я могу вас простить, но как Бог вас простит?», была вынужденной. Никого прощать Николай не собирался. Ему нужно было снять остроту момента. Он испугался…
Из воспоминаний современника
Когда привели на плац первую партию, то их невозможно было узнать, до того они были исхудалы, печальны и обросли, что не походили на людей… Для большей безопасности кругом плац-парада гарцевали два эскадрона драгун. Вскоре приехал генерал Данилов, назначенный для наблюдения за порядком во время экзекуции. Поздоровавшись с полубаталионом Астраханского полка, он начал говорить солдатам, что когда придет время наказывать бунтовщиков-поселян, то не щадить их – ибо кто окажет им малейшую снисходительность, того он сочтет за пособника и ослушника воли начальства, а следовательно, за такого же бунтовщика, как и поселяне… «Стегать их, шельмецов, без милосердия, по чему ни попало, – прибавил он. Затем, обратившись к поселенному баталиону, собранному для присутствия на экзекуции, сказал: – Ну что, разбойники? Что наделали? Вот теперь любуйтесь, как будут потчевать вашу братию…» Страшная была картина: стон и плач несчастных, топот конницы, лязг кандалов и барабанный, душу раздирающий бой – все это перемешалось и носилось в воздухе. Наказание было настолько невыносимым, что вряд ли из 60 человек осталось 10 в живых. Многих лишившихся чувств волокли и все-таки нещадно били. Были случаи, что у двоих или троих выпали внутренности… Морозова, который писал прошение от имени поселян, били нещадно. Несмотря на его коренастую фигуру и высокий рост, он не вытерпел наказания, потому что его наказывали так: бьют до тех пор, пока не обломают палок, потом поведут опять и снова остановят, пока не обломают палок. Ему пробили бок, и он тут же в строю скончался.
Из воспоминаний художника-гравера Лаврентия Авксентьевича Серякова
Виновных в нашем округе оказалось около 300 человек. Квартиры убитых штаб-офицеров, обер-офицеров, докторов и других лиц обращены были в арестантские тюрьмы, в окна вставили железные решетки. В эти временные тюрьмы, в деревянных тяжелых колодках, были рассажены арестованные. Охраняли их казаки и солдаты резервов, потом прислан был еще батальон солдат, кажется, из Петербурга.
Обвиняемые, сколько помню про наш округ, просидели в тюрьмах до Великого поста 1832 года, в томительном ожидании окончательного решения своей участи. Наконец участь эта была решена: одних приговорили к наказанию кнутом на так называемой кобыле, а других – к прогнанию шпицрутенами.
Я живо помню эти орудия казни. Кобыла – это доска длиннее человеческого роста, дюйма в 3 толщины и в пол-аршина[14] ширины, на одном конце доски – вырезка для шеи, а по бокам – вырезки для рук, так что когда преступника клали на кобылу, то он обхватывал ее руками, и уже на другой стороне руки скручивались ремнем, шея притягивалась также ремнем, равно как и ноги. Другим концом доска крепко врывалась в землю наискось, под углом.
Кнут состоял из довольно толстой и твердой рукоятки, к которой прикреплялся плетеный кнут длиной аршина полтора, а на кончик кнута навязывался 6– или 8-вершковый, в карандаш толщиной, четырехгранный сыромятный ремень.
Что же касается до шпицрутенов, то я вполне ясно помню, что два экземпляра их, для образца, были присланы (как я позже слышал) Клейнмихелем в канцелярию округа из Петербурга. Эти образцовые шпицрутены были присланы, как потом мне рассказывали, при бумаге, за красной печатью, причем предписывалось изготовить по ним столько тысяч, сколько потребуется. Шпицрутен – это палка в диаметре несколько менее вершка, в длину – сажень[15]; это гибкий, гладкий прут из лозы. Таких прутьев для предстоящей казни бунтовщиков нарублено было бесчисленное множество, многие десятки возов.
Наступило время казни. Сколько помню, это было на первой или на второй неделе Великого поста. Подстрекаемый детским любопытством (мне шел 9-й год), я бегал на плац, лежащий между штабом и церковью, каждый день во все время казней. Морозы стояли в те дни самые лютые.