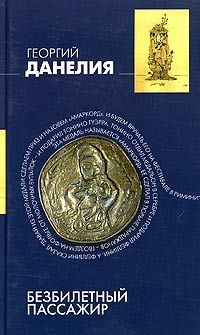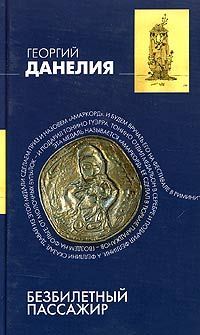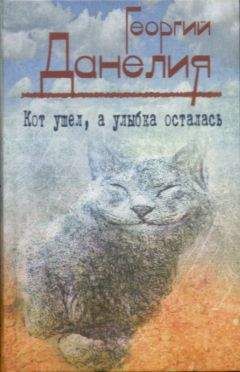Давным-давно, будучи школьником младших классов, отец сконструировал электрическую кормушку для рыбок в аквариуме. «Юраша – голова!» – определил тогда дедушка, а журнал «Знание-сила» осветил опыт юного изобретателя краткой заметкой. Сколько я помню, отец всегда возился с радиотехникой. Правда, некоторое время довольно увлеченно коллекционировал открытки и книги, но под кроватью, на подоконнике, на стульях, на диване, на обеденном столе, в угольном посудном шкафчике и в гардеробе среди белья постоянно не убирались разложенные трансформаторы, конденсаторы, панели, динамики, резисторы и прочие детали. Мама протестовала, пыталась навести порядок самовольно – возникали конфликты. Однажды в сердцах она даже разбила радиолампу о папину голову. «Юраша – голова!» – обиделся дедушка.
Почти к каждому празднику отец собирал новый приемник, и вся семья в торжественно-молчаливом сборе слушала Красную площадь. И дедушка тоже, через специальный контакт, подключенный к черепу. Особенно он любил слушать голос Шаляпина. Вскоре после праздника отец обычно разбирал приемник. Неизменным оставался только старый картонный репродуктор, который часто под вечер пугал меня трансляцией спектакля МХАТа «Домби и сын». Объявляли – начиналось, били колокола. «Слышите, это хоронят Домби», – скорбно вещал балованный голос. «Мама, мама!» – сдавленно призывал я, леденея от ужаса. Выдернув вилку репродуктора, мама прикрывает настольную лампу, ласково целует меня и оставляет, возвращаясь на кухню. Переделанная папой из керосиновой медная лампа со сфинксами в основании мягко размывает через газету лохматого Бетховена в темной багетовой рамке над пианино. Я отворачиваюсь от него и засыпаю, расковыривая пальцем засаленные обои. Засыпаю, привычно не замечая ночной тарабарщины железнодорожных диспетчеров, ритмично врывающейся какофонии проносящихся поездов, устало фыркающего паровозного разноголосья, не ведая близкого зова вновь разбуженных заводских гудков.
Однако в иные дни утро нашей квартиры начиналось несправедливо рано. Стены сотрясались от разрушительных ударов кувалдой, сопровождавшихся молодцевато-бравым:
Помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела…
Распахивал двери задвинутый, заставленный, захламленный коммунальный коридор. Вскочившие со своих постелей жильцы группировались в кухне семьями, каждая у своего стола, с любопытно-радостным негодованием наблюдая виновника побудки – молодого верзилу, по имени Ярослав, с песней вбивавшего в пол железнодорожный костыль. Это означало скорое приближение переаттестации в районном психоневрологическом диспансере, где он состоял на учете, симулируя умственную неполноценность с призывного возраста. Время от времени, нуждаясь в свидетельских показаниях, Ярослав валял дурака перед обитателями квартиры, двора и микрорайона. Обмазавшись лыжной мазью, туго замотавшись бинтами снизу доверху, варил в корыте суп из докторской колбасы, печенья и неразвернутых карамелек, маршировал по улице в белом маскировочном халате при полной охотничьей амуниции, имитировал на баяне воздушную тревогу, гремел речами агитационно-бредового содержания, возвысив себя голышом на скамейке посреди безмолвно озабоченных соседей. Унять, загнать Ярослава в комнату могла только его мамаша – немногословная старообрядка из раскулаченных, со средним образованием; принципиально не желая отдавать свои знания строительству социализма, она назло обществу служила уборщицей в банке. Папаша, лысый тщедушный техник неизвестного профиля, не имел никакой силы.
Официальное положение идиота давало возможность их сыну беспрепятственно заниматься бизнесом. Поначалу Ярослав пытался нищенствовать на паперти, откуда был вскоре изгнан и жестоко избит конкурентами за несоблюдение правил субординации. Затем, оправившись от побоев, задумался, недолго экспериментировал и наконец нашел истинно золотую жилу: собирал бутылки по вагонам, вокзальным залам и помойкам. А летом, скинув с себя вонючую робу, извлекал из сундука шикарный габардиновый костюм и отправлялся в круиз по черноморскому побережью, фотографируясь на память с праздно-красивыми дамами среди шашлыков и кипарисов. Однажды один из жильцов, фронтовик, желая припугнуть Ярослава силой печати, запечатлел моющего грязные бутылки бизнесмена в окружении смрадных мешков и возмущенных соседей трофейным аппаратом «лейка». Мамаша-старообрядка, пытавшаяся заслонить сына телом, потерпела неудачу, плюнула с досады в объектив, но промахнулась и настрочила на фронтовика анонимку. Отреагировать пришлось цеховой парторганизации с места работы бывшего фронтовика. Пришла комиссия, посмотрели, поговорили, посмеялись за чаем и, уходя, строго предупредили верзилу Ярослава о соблюдении норм общественной гигиены.
«Не те времена! Не вышло! – торжествовала, позволив себе к случаю дозу наливки, озорная вдовая старушка Марфа, вспоминая единственно любимого мужа, по прозвищу Птичка. – Выкусили? Птичка мой, Птичка! Шибко прибил полку над раковиной, до сих пор висит, держится – красотец!» – притопывала она.
Дед мой не выходил на кухню без галстука и пиджака. Он появился, шаркая, из глубины коридора с банкой покупного варенья в руках.
– Вот, Марфуша, к дню ангела презентую.
– А, старый хрен, глухая тетеря! – насмехалась в ответ Марфа, беря гостинец.
– Пожалуйста, пожалуйста, – искренне радовался дедушка, принимая ее брань за естественную благодарность.
Я уходил, убегал, исчезал, чтобы не видеть его, чтоб не расплакаться от обиды.
Над мокрыми шляпами и зонтами, над вымытыми до блеска панцирями легковых автомобилей, над прибитыми добрым грибным дождем вихрами молодых тополей, уже набухших зеленью вдоль улиц и переулков, плыву я в прозрачном уюте двухэтажного троллейбуса на гулянье в Останкине вместе с дедом…
Очнувшись в палате, я приметил над головой красно-стеклянный пузырь, оттуда по гибкой пластмассовой жиле каплями падала в меня новая кровь, сукровицей вытекающая через дренаж из заклеенной, перемазанной йодом только что прооперированной руки, раздутой отеком, как толстая ляжка. Боль, мытарная, ритмичными приливами вонзающаяся в кость, к ночи стала невыносимой, заставив стонать в ожидании облегчающих инъекций морфия.
Утром, когда делали перевязку и пан примач-травматолог предложил мне шевельнуть опухшими пальцами, я узнал непривычную, непонятную для себя весть: рука парализована, не действует.
– Скорее всего, нерв придавлен отеком. Надо чекать – ждать, пока спадет.
– Чекать, чекать, – заключил консилиум.