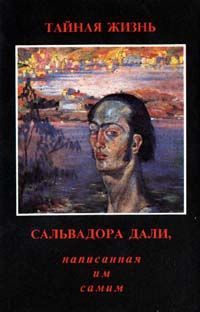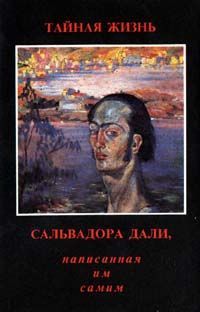Мне 29 лет — лето в Кадакесе. Я ухаживаю за Гала. Мы обедаем с друзьями на берегу моря, под вьющимся виноградом, оглушенные гудением пчел. Я на вершине счастья, вдобавок я уже ношу в себе зреющую тяжесть любви, она рождается и вцепляется мне в горло, как золотой массивный осьминог, сверкающий томительными самоцветами. Я ем четыре жаренных лангуста, политых слабеньким местным вином без претензий, но в этом-то и заключены изысканные секреты Средиземноморья.
Обед затянулся так, что превращается в ужин. Солнце садится. Мои ноги обнажены. Одна приятельница, которая всегда восхищается мной, уже не раз намекала на красоту моих ног. Это поистине верно в Ла Палис, но я считаю глупыми ее назойливо повторенные комплименты. Она сидит на земле, ее голова слегка опирается на мое колено. Вдруг она кладет руку мне на ногу — я чувствую еле ощутимую ласку ее трепещущих пальцев. И тут же вскакиваю, охваченный чувством ревности к самому себе, как если бы внезапно сам стал Гала. Отталкиваю свою поклонницу, бросаю ее наземь и топчу ногами что есть силы. Меня с трудом отрывают от нее, окровавленной.
Я обречен на эксцентричность, хочу того или нет. Мне 33 года. Со мной только что говорил по телефону блестящий молодой психиатр. Он прочел в «Минотавре» мою статью «Внутренние механизмы паранойальной деятельности». Он поздравляет меня и удивляется точности моих научных познаний — таких редкостных в наши дни. Он хочет меня видеть, чтобы обсудить все это с глазу на глаз. Мы договариваемся встретиться вечером в моей мастерской на улице Гоге в Париже. Все последующие часы я возбужден этой предстоящей встречей и силюсь составить план — о чем мы будем говорить. Втайне я польщен, что мои идеи, которые даже среди самых близких друзей-сюрреалистов воспринимались как парадоксальная причуда, привлекли серьезное внимание в научной среде. Хочется, чтобы наш первый обмен мыслями прошел нормально и значительно. В ожидании гостя, я продолжаю по памяти свою-начатую работу, — портрет виконтессы Ноайе. Работать на меди особенно трудно, нужно видеть собственный рисунок на пластине, отполированной до зеркального блеска. Я заметил, что детали легче различать при светлом блике. Поэтому, работая, я наклеил на кончик своего носа кусочек белой бумаги в три квадратных сантиметра. Отсвет этой белизны позволил мне отчетливо видеть рисунок.
Ровно в 6 часов позвонили в дверь. Я отложил в сторону медную пластинку и отворил дверь. Это был Жак Лакан, и мы тут же начали весьма серьезную беседу. Мы поразились, насколько наши взгляды, по схожим мотивам, противоположны утверждениям конституционалистов, которые были тогда в большой моде. Мы проговорили два часа в настоящем диалектическом сумбуре. Уходя, Жак Лакан обещал поддерживать со мной регулярные контакты для обмена мнениями.
После его ухода я долго размашисто ходил по мастерской, стремясь обобщить наш разговор и более объективно сопоставить те редкие расхождения, которые обнаружились между нами. Но не меньше меня заинтересовало, а точнее, обеспокоило, почему молодой психиатр так настойчиво разглядывал меня, что за странная улыбка скользила по его губам и отчего он еле сдерживал свое удивление. Предавался ли он морфологическому изучению моей физиономии, оживленной волнующими меня идеями? Я получил ответ на эту загадку, когда отправился мыть руки — при этом всегда особенно ясно видно, какие вопросы чего стоят. Но на этот раз мне ответило зеркало. Оказывается, на протяжении двух часов я рассуждал с молодым светилом психиатрии о трансцедентных проблемах, забыв отклеить квадратик белой бумаги с кончика носа! И не подозревая о смешном маленьком обстоятельстве, толковал важно, объективно и серьезно! Какой циничный мистификатор мог бы сыграть эту роль до конца?
Мне 23 года. Я живу в доме родителей в Фигерасе и пишу красками большое кубистское полотно у себя в мастерской. Почему-то потерялся пояс от домашнего халата, это затрудняет движения. Время от времени я беру электрический проводок и обматываю его вокруг талии. Но на самом конце проводка — маленькая лампочка. Что ж, тем хуже, я не хочу избавляться от нее и затягиваю ее на манер пряжки. Чуть погодя сестра предупреждает меня, что в салоне ждут визитеры, пришедшие без моего ведома. В дурном расположении духа отрываюсь от работы и вхожу в салон. Родители бросают неодобрительные взгляды на мой измазанный красками халат, но не замечают лампочки, свисающей с бедра. После взаимных представлений я сажусь. И лампочка, придавленная к креслу и моим задом, лопается с оглушительным треском бомбы…
Ах, эта память — она упорно оживляет какие-то незначительные происшествия моей жизни, а другие опускает.
В 1928 году я читал лекцию в моем родном Фигерасе. Председательствовали мэр и местные авторитеты. В зале было непривычно многолюдно. Свои разглагольствования я закончил яростным: «Мадам, месье, лекция закончена». Тон резкий, почти агрессивный. Зал не понял конца моей речи, а я был зол, что плохо следят за ходом моей мысли. Но как только я выговорил слово «закончена», мэр падает замертво у моих ног!
Невозможно описать, что тут поднялось, ведь этот человек был невероятно популярен и любим всеми, кто с ним работал. Юмористические газеты утверждали, что это я уморил его своей дикой лекцией. На самом деле его просто сразил внезапный приступ грудной жабы.
В 1937 году я должен был читать в Барселоне лекцию «феноменальная сюрреалистическая мистерия на ночном столике». Этот день совпал с мятежом анархистов. Часть публики все же пришла и, слушая меня, оказалась запертой в помещении, в котором, как и следовало, опустили железные жалюзи на окнах, выходящих на улицу. И все время, что я говорил, был слышен прерывистый шум перестрелки и взрыв бомб Иберийской анархической федерации.
На другой лекции в Барселоне седобородый врач в припадке безумия поднялся из зала и хотел меня убить. Беднягу связали и вывели.
1936 год, наша квартира по улице Бекерель, 7, рядом с Сакре-Кёр. Гала на следующее утро должны были оперировать, и ей следовало вечером прийти в клинику. Операция очень серьезная. Несмотря на это, Гала ни в малейшей мере не озабочена, и мы проводим часы пополудни, создавая две сюрреалистические композиции. Она забавляется как дитя, готовя ошеломительную смесь ингредиентов, которую потом механически напыляет. Позднее я признаю себя побежденным, ведь ее вещь вся наполнена бессознательными аллюзиями близкой операции. Разве не очевиден их в высшей степени биологический характер? Металлические антенны готовятся терзать мембраны, чашка муки передает потрясение торса, у которого петушье перо на месте грудей. Я же делал «Стенные часы гипногогии»: огромный батон хлеба возлежит на роскошном пьедестале, а хлеб — инкрустирован 12 чернильницами, которые наполняет чернилами Пеликан. В каждой — перо другого цвета. Я был в восторге от полученного эффекта.