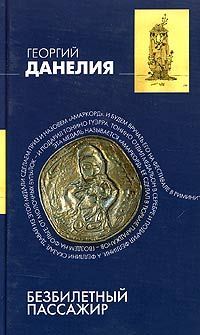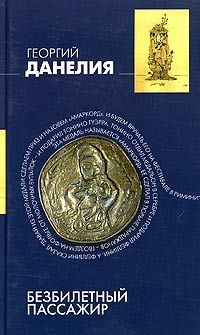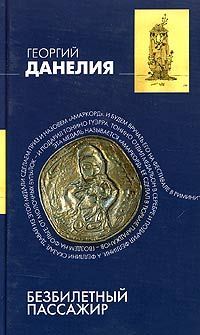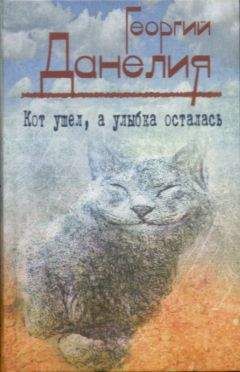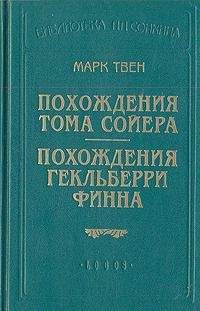Снимать мы должны были в какой-нибудь готовой декорации, построенной для другого фильма. Но на момент съемок в павильонах «Мосфильма» стояли либо избы, либо дворцовые залы, и нам пришлось сделать выгородку комнаты Лоханкина в коллекторе (зале для складирования). Мы сами притащили и поставили две стенки, сами принесли мебель и реквизит. И начали снимать. (Оператором нам назначили женщину средних лет — Соню Хижняк.)
Первый день прошел очень успешно — сняли 140 полезных метров, потратили 287. Второй день не задался. Начали снимать — забарахлила камера — «салат». Перезарядились — снова брак — соринка. Снимаем крупный план Гали Волчек — в коллектор въехал грузовик, звукооператор требует переснять. Второй дубль у Гали получился хуже, чем тот, испорченный, — Галя настаивает: еще один. А пленка идет. В итоге к концу смены на последний кадр осталось всего девять метров — ровно на один дубль. Снимали не по порядку, а так, как было удобно по свету, и последним оказался кадр из середины: Лоханкин живо вскочил с дивана, подбежал к столу, с криком «Спасите!» порвал карточку и снова улегся на диван.
Проверяли на мне: Шухрат стоял с хронометром, а я вскакивал с дивана, рвал карточку и ложился обратно.
— Семь метров, — сказал Шухрат. — Женя, запомнили? Сделайте все точно так.
— Давайте снимать, — Евстигнеев лег на диван.
Я перекрестился и скомандовал:
— Мотор!
Евстигнеев встал, медленно подошел к столу, порвал карточку, вернулся, лег на диван и пробормотал: «Спасите»… И пленка кончилась.
Погубил фильм, зараза!
— Съемка окончена, спасибо всем, — сказал невозмутимый, как индеец, Аббасов, — пошли, Гия!
И мы, не попрощавшись, ушли из павильона.
Долго шли молча.
— А может, это не так уж плохо? — наконец, сказал Шухрат.
Я свирепо посмотрел на него. Шухрат поднял руки:
— Молчу.
Шухрат оказался прав, — когда в первый раз показывали отрывок, больше всего смеялись именно в этом месте. А Ромм потом даже похвалил эту евстигнеевскую импровизацию:
— Хорошо придумали, сделали от обратного. Молодцы!
Я посмотрел на Шухрата, Шухрат — на меня, и мы не стали уточнять, чья это идея, — зачем терять время на никому не интересные подробности?
Между прочим. В Ярославле снимали выноску окна к сцене «Афоня просыпается в комнате Кати» (фильм «Афоня»)… Снимать надо было в пять утра. (Утренний режим — солнце еще не взошло, но уже светает.) По задумке там, за окном, должны были возвращаться со свадьбы молодожены. Но в половине пятого выяснилось, что свадебное платье невесты забыли в Москве. Я уже хотел снимать просто пейзаж, но тут оператор Сергей Вронский показал мне на лошадь, которая тащила телегу с бочкой…
— Пусть эта телега проедет, — сказал он.
Сняли лошадь.
Первой на этот кадр обратила внимание жена художника Левана Шенгелия Рита.
— Как ты это потрясающе придумал, — сказала она мне после просмотра на «Мосфильме». — Как это точно!
— Что точно? — осторожно спросил я.
— Лошадь! Он делает предложение — а потом лошадь. Вот и Катя, как эта несчастная лошадь, будет тащить груз омерзительного, пьяного хамства и нищеты всю жизнь! Ведь так?
Я скромно кивнул.
Через год «Афоню» показывали в Лос-Анджелесе в большом кинотеатре. Рядом со мной сидел классик американского и мирового кино, тбилисский армянин Рубен Мамулян. Когда на экране появилась лошадь с бочкой, раздались аплодисменты. После просмотра я его спросил:
— Рубен, а почему аплодировали, когда появилась лошадь?
Он усмехнулся:
— Не думай, что американцы такие тупые, как пишут ваши газеты. Что тут понимать? Он спрашивает: «Ты замуж за меня пойдешь?» И сразу — лошадь с повозкой. Замужем за ним она и будет, как эта лошадь. Я угадал?
И я опять не стал уточнять. Кому интересны лишние подробности?
Ким
В ноябре мы с Шухратом были в Краснодаре на практике — на съемках картины Григория Львовича Рошаля «Хождение по мукам». Мама работала там вторым режиссером, а директором картины был Виктор Серапионович Циргиладзе, мой старый знакомый: именно он гонялся за мной с палкой на съемках «Георгия Саакадзе» после случая с «цыганочкой».
Ну что я могу рассказать об этой практике? Съемки как съемки, все это я уже видел не раз. Ярко запомнилась такая картина: вечер, закат, поле, черный силуэт съемочного крана, на нем — человек… Мне даже захотелось про это снять фильм (у меня в жизни так бывало — картинка, а потом фильм. Вертолет на замке — «Мимино», девушка и парень с зонтиком — «Я шагаю по Москве»).
С Циргиладзе всегда работал Ким — скромный седой человек с усталым лицом. Мы никак не могли определить его должность. Иногда он носил стул за режиссером, иногда на нем ставили свет, а чаще всего он просто стоял около камеры. Наверное, Ким и сам прекрасно понимал, что без него спокойно могут обойтись, и поэтому очень старался быть полезным.
Снимали сцену «ранение Рощина». Накануне ночью подморозило, и лужи покрылись коркой льда. Николай Гриценко, который играл белого офицера Рощина, предложил эффектный кадр: Рощина ранят, он падает и лицом разбивает ледяную корку. «Снимайте наверняка, — предупредил Гриценко. — Падать буду только один раз».
Настроились, тщательно все проверили.
— Все готовы? — спросил Рошаль.
— Готовы.
— Камера! Начали!
И Гриценко самоотверженно рухнул лицом в лужу. Разбил он щекой лед или не разбил, никто не увидел, потому что тут же с криком «ой, упал!» в кадр вбежал Ким и стал поднимать Гриценко: «Коля, больно?»
Хорошо, что Гриценко в этой сцене был без сабли, а то разрубил бы Кима на кусочки.
И еще у Кима было одно занятие — когда шла съемка с крана, если оператор слезал с площадки, туда сажали Кима — чтобы не нарушалось равновесие.
Как-то снимали километрах в тридцати от города, в степи. В Краснодар мы с Шухратом возвращались в «газике» с Циргиладзе. На полпути Циргиладзе спохватился:
— Ребята, а где Ким?
Ким всегда ездил с ним.
— Не знаем.
Развернули машину, поехали обратно.
На фоне заходящего солнца чернел силуэт крана. А на верхней площадке крана, сгорбившись, сидел Ким.
— Ты что там делаешь, болванчик?! — истошно заорал Циргиладзе.
Болванчиками Циргиладзе называл всех. Одних в глаза, других (Рошаля, например) — за глаза.
— Меня забыли, — виновато объяснил Ким.
До войны Ким был большим начальником в нашем кино. Потом от него ушла жена, он запил и пропал. Объявился во время войны в Тбилиси: жалкий, опустившийся… Его случайно на улице встретил Циргиладзе, узнал — и с тех пор они не расставались.