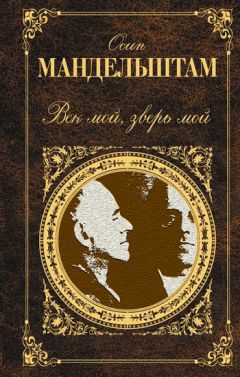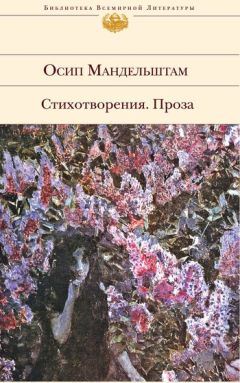Второй арест. 1938-й.
Как раз тогда всходила «свобода от химеры совести», свобода убивать миллионы просто так: потому что мешают, потому что они лишние. А совесть — реальный зверь. Если грызёт, а тебе не больно, — значит, ты труп бесчувственный.
«Мы живем, под собою не чуя страны» — поэтически заурядное стихотворение, а политически — слабое. Там же нет протестов против тирании, нет воззваний и обещаний типа «товарищ, верь! взойдёт она, звезда пленительного счастья и на обломках самовластья напишут наши имена! ». Там никакого будущего нет вообще. Что же есть? Только вызов.
Мандельштам вызвал Сталина на дуэль. Эти стихи — намеренное оскорбление. Оскорбительные «жирные пальцы, тараканьи усы»… Он знал, как оскорбительно это прозвучит для властителя, который свои усы холил, лелеял, любил и гордился. Вызвал и — погиб на Второй речке.
Забывают, что Пушкин вызвал на дуэль не Дантеса, а Геккерна — посла голландского короля, представителя коронованной особы. Вызывая Геккерна (а не кавалергарда), Пушкин перешёл на максимально возможный уровень.
Вызвать на дуэль властелина — ничего выше быть не может. А поскольку победа исключается, значит, это способ самоубийства. Мандельштам это понимал. Его вдова и Ахматова в своих воспоминаниях пишут, что после этого стихотворения он знал, что смерть неизбежна, и постоянно повторял: «К смерти я готов».
А в комнате опального поэта
Дежурят страх и муза свой черёд.
И ночь идёт, которая не ведает рассвета.
Ахматова написала это о Мандельштаме, о том, как он по ночам ждёт ареста. И она оказалась права: для него эта ночь не кончилась.
Назвать жестоким — сделать тирану комплимент. Сказать про жирные пальцы — выразить омерзение. Брезгливое омерзение.
Ещё одно обстоятельство делало вызов Пушкина невозможным и потому демонстративно скандальным. Письмо Геккерну написано абсолютно недопустимым языком. Все, кто его читал, отзывались именно как о безобразном, шокирующем, непристойном.
Эта непристойность сознательно была выбрана Пушкиным для того, чтобы полностью исключить всякие и чьи-либо попытки мирного урегулирования.
Мандельштам сделал точно это: перевёл конфликт из литературно-издательского мира на максимально высокий уровень и — сделал это в непристойном стиле.
С ноября 1934-го до второго ареста Мандельштам жил в ожидании неминуемой смерти.
И всю ночь напролёт жду гостей дорогих,
Шевеля кандалами цепочек дверных.
Так продолжалось почти четыре года. Для людей дверная цепочка — защита, для него — кандалы, значит, он в тюрьме, а свобода — издевательский призрак.
Со дня первого ареста началась смерть. Смерть растянулась на полторы тысячи дней. Две пары тюремных фото показывают разницу между живым и мёртвым.
О стихотворении донесли сразу.
Товарищ Сталин мог казнить Мандельштама немедленно. Но это значило бы показать, что он чувствует себя задетым, оскорблённым. Разве может червяк оскорбить властелина? А ещё т. Сталин точно знал, что чувствительный подонок отныне будет ежеминутно чувствовать у себя на горле жирные пальцы.
Власть отвратительна, как руки брадобрея? Как пальцы! Не плечи, не локти, а именно жирные скользкие пальцы берут тебя за лицо… Приговор т. Сталина, предшествующий первому аресту: изолировать, но сохранить — в точности как у Киплинга в «Балладе о царской милости».
Он был каменьями побит на свалке в час зари,
Согласно писаным словам: «Чтоб был он жив, смотри».
Сталин побивание камнями (мучительную казнь) растянул на годы. В балладе Киплинга шах говорит оскорбителю: «Ты будешь милости просить и в муках звать меня». Так и вышло. В 1937 году Мандельштам надломился, сел к столу, взял бумагу, карандаш и начал просить милости — сочинять «Оду» Сталину: «Когда б я уголь взял для высшей похвалы».
Не вышло. Не смог написать «высшую похвалу», а только предположил, что было бы, если. Да и «уголь» — какое-то мучение: не грифель, не перо; видно, как раздавленный гений продолжает извиваться, червяк.
Мы недаром здесь поминали Эсхила. В «Оде» Сталину есть важная строка:
Гляди, Эсхил, как я, рисуя, плачу.
«Ода» Сталину — поэтическая катастрофа. Сломленный Мандельштам попытался, изо всех сил попытался спастись — воспеть кремлёвского горца; авось пощадит.
Вдова в мемуарах рассказала:
Из воспоминаний Надежды Мандельштам:
«Это был единственный в жизни случай: Мандельштам, сочиняя стихи, обычно бродил из угла в угол, мычал, что-то записывал на обрывках. А тут отточил карандаши, сел за стол, положил чистые листы…»
М. Гаспаров (знаменитый признанный авторитет) пишет про «Оду»: это, мол, искренняя хвала. Ага, в 1937-м Мандельштам полюбил кровавого таракана, ещё раз принял революцию (цикуту). Эдип, всё поняв, выколол себе глаза — принял слепоту.
Читаем «Оду» дальше: «Я б воздух расчертил на хитрые углы/ И осторожно, и тревожно». Осторожность, хитрость, тревога — это что ли праздник, ликование? Или — «шевеля кандалами цепочек дверных»?