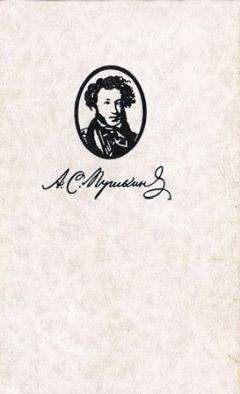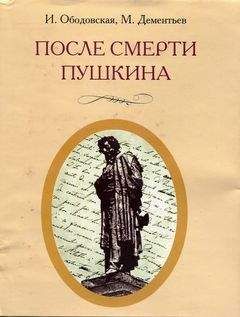Важная для любого времени тема «человек и власть» в «Жизни Пушкина» преломилась как тема «художник и власть». Буквально уже на первых страницах произведения автор заявляет о сопряженности судьбы Пушкина с царской династией Романовых, указывая, что поэт родился в день рождения внучки императора, а первое «столкновение» с ним пережил в полуторагодовалом возрасте. И далее подробнейшим образом прослеживает все нюансы, повороты, перипетии взаимоотношений (в большинстве случаев трагических) Пушкина и правителей России. Таким образом обнажилось всевластие государства-Левиафана, подавляющего и изничтожающего все свободное и прекрасное. А кроме того, обнаружилось трагическое прозрение поэта, постепенно понявшего, что никакой договор с правительством невозможен, немыслим. Можно считать, что на его примере и на собственном горьком опыте Чулков постигал трагедию взаимоотношений власти и художника. Он, перефразировав поэта, предложил новую формулу: «Гений и жандарм — нечто несовместное», потому что «такие слова, как «великодержавие», «государственность», «законность», совершенно по-разному звучат в устах шефа жандармов и в устах поэта». Показательно, что именно в исследовании жизни Пушкина сам писатель увидел для себя возможность отстоять (пусть и в мизерных дозах) свои человеческие и профессиональные честь и достоинство: не писать только «в стол», как это делали многие его товарищи, а находить способ говорить о сокровенном. Благодаря Пушкину читатель открывал для себя путь, следуя которому он мог выстоять и даже пусть и пассивно, но сопротивляться государственному произволу. И в этом тоже проявлялась гуманизирующая и выпрямляющая человека миссия великого поэта и его биографа.
С этой проблемой непосредственно связана и актуализация темы «Пушкин-историк» в биографии поэта. Понимая, что «разгадать… душевное устроение» ребенка нелегко, Чулков тем не менее берется утверждать, что уже в самом начале жизненного пути Пушкин «чувствовал, что он живет в определенный исторический час: он понимал связь настоящего с прошлым и будущим». И далее он последовательно раскрывает отношение Пушкина к тем или иным историческим событиям и идеям, причем особое место в биографии занимает рассказ о формировании его политических симпатий.
Сегодняшнему читателю явно небезынтересно будет напоминание о сочувственном отношении Пушкина к политике русского государства на Кавказе, о его «особой позиции» по «польскому вопросу». А как неожиданны замечания по поводу того, что западник Чаадаев в какой-то момент разделил национально-патриотические устремления поэта. Вообще, думается, немаловажно указание на несостоявшийся диалог двух умнейших людей России, на разность их взглядов на историю. Спор вокруг христианской идеи, мысль о всеобщем единстве, к которому устремляется человечество, — вот что волновало этих двух выдающихся современников. Но как же различно они мыслят, какие различные концепции выстраивают!
Еще раз мотив «различно» умных людей возникнет в книге в связи с обликом Пестеля. Приводя нелицеприятные пушкинские записи о Пестеле, Чулков задается вопросом: чем мог руководствоваться поэт, подозревая Пестеля едва ли не в предательстве, почему не возникло симпатий между «самоуверенным, надменным, серьезным и строгим Пестелем» и «страстным, насмешливым» Пушкиным, как смог поэт не поддаться обаянию человека, чьи идеи были столь притягательны и чье чело окружал ореол мученичества? Может быть, этот аспект — аспект взаимонепонимания, столь характерный для русского мышления один из самых волнующих в книге Чулкова, размышлявшего об интеллектуальной драме умнейших русских людей.
Все эти обстоятельства определяли усиливающееся одиночество Пушкина и в среде близких и любящих его людей, и в кругу читателей. Высказав сомнительное мнение, что после 1833 года Пушкин ничего значительного не создал (похоже, что Чулков вообще недооценивает некоторые произведения поэта, например «Евгения Онегина», о котором в книге говорится буквально в нескольких строках!), он тем не менее одаряет читателя замечательной догадкой. Простота поздней пушкинской поэзии осталась недоступной «среднему» читателю: ведь непонятную» поэзию публика хотя и бранит порою, по всегда тайно уважает, подозревая свою некомпетентность», зато «важно критикует ясность и простоту гения, воображая», что все поняла и потому имеет право смотреть на него свысока.
Но есть в книге и страницы, которые, конечно, вызовут самые острые разногласия. Это, в частности, главы, посвященные любви поэта, его женитьбе на Наталье Гончаровой. Уже давно стала расхожей саркастическая фраза о том, что Пушкину надо было бы жениться не на ней, а на пушкинистах или пушкиноведении в целом. В этом же русле находится и «восхитительное» предположение Чулкова, что лучшей, чем Наталья Николаевна, женой для Пушкина была бы начитанная крепостная крестьянка Феврония Ивановна! Похоже, страсти улягутся еще не скоро: до сих пор люди делятся на тех, кто оправдывает Натали, и тех, кто ее порицает.
Автора нельзя отнести к поклонникам Натальи Николаевны, но он также не придерживается версии, что Пушкина толкнула к браку страстная любовь. Выясняя мотивы, побудившие к закреплению такого, на его взгляд, странного союза, он приходит к выводу, что это было трезвое решение с обеих сторон, возможно, даже вынужденное в какой-то степени: Пушкин во что бы то ни стало спешил остепениться, женитьба обещала спокойствие и тишину, возможность отдаться вожделенному груду, а страсти, хотя и приносили вдохновение, оборачивались муками и страданием. Такой подход к супружеству Чулков совершенно справедливо называет несколько консервативным. Гончарову же пора было выдавать замуж, так как других претендентов на руку бесприданницы не находилось.
Неоспоримым доказательством своей догадки автор считает то, что в болдинском уединении, когда душа поэта была полна лирическими переживаниями, он ни слова не посвятил невесте. По его мнению, «барышня Гончарова» и не заслуживала ничего, кроме банальных проявлений сентиментальной нежности. Чулков не скупится на едкую иронию, когда описывает ее вкусы: «настоящего романтизма в ней не было никакого, но ее привлекал к себе самый скверный его суррогат, бутафорский блеск так называемого «света», фальшивая «поэзия» балов и салонов, глупенький романтизм флирта, легкий призрак адюльтера». Он даже не находит ее красивой: в ней не было никакой внутренней жизни, ее хорошенькое личико безмятежно и незначительно, в нем нет мысли. Чулков как будто забывает, что Натали была семнадцатилетней девушкой, когда стала женой поэта, и, хотя в ту пору взрослели рано, ей были свойственны все наивные мечты и упования девушек ее возраста и ее круга. Не случайны и ее горькие слезы на следующее утро после венчания, когда она почувствовала себя покинутой занятым своими делами мужем. Вполне естественная реакция для девушки ее возраста! Да и женщина старше, наверное, испытала бы в этом случае те же самые чувства.