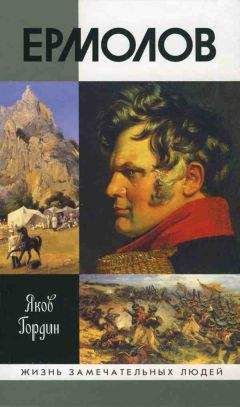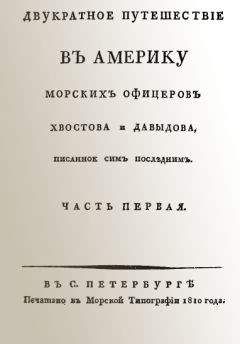Он сознавал, что добиться той высоты удачи, о которой он мечтал, можно только предлагая за нее самую высокую цену — свою жизнь и жизнь своих солдат.
«23-го числа артиллерия отряда Дерфельдена вела против нее (фланговой батареи. — Я. Г.) огонь более частый, и русские артиллеристы старались прицельною стрельбою вгонять свои гранаты в земляной бруствер батареи, который местами от разрывов их действительно стал разваливаться».
Штурм был назначен на раннее утро 24-го. Суворов издал предельно лапидарный приказ: «В ров, на вал, в штыки».
Ратч записал рассказ Ермолова:
«Перед рассветом 24-го октября войска двинулись к ретраншементу. Артиллерия отряда Дерфельдена открыла самую живую стрельбу против фланговой батареи, огонь которой был гибелен для атакующих; он нанес бы войскам нашего правого фланга еще больший вред, если бы неприятель еще дольше держался на этой батарее; но как от осыпающегося бруствера начали обнажаться орудия, почему некоторые были подбиты, то польские артиллеристы и начали свозить их в город. Дерфельден почитал Ермолова главным виновником этого успеха. <…> Неприятель был уже выбит из своего лагеря и все пространство между ретраншементом и предместьем было очищено».
Ратч был артиллерийским генералом, писавшим историю гвардейской артиллерии, что было особенно симпатично Ермолову, и потому Алексей Петрович не только акцентировал свой рассказ на собственной артиллерийской практике, но, проникнувшись доверием к собеседнику и летописцу, демонстрировал редкую для него откровенность:
«В это время Суворов приказал ввезти 20 полевых орудий в Прагу, чтобы сбить артиллерию, выставленную в городе, на противоположном берегу. Сев на лошадь одного из казаков, Ермолов поскакал за своими орудиями. Неприятельские орудия были расставлены по два и по три совершенно открыто. Желали ли польские артиллеристы сохранить свои орудия для дальнейших действий или по другим причинам, но они выказали мало стойкости: после первого подбитого орудия все стоявшие от моста выше по течению скрылись в городских улицах; тогда Ермолов без всякого приказания стал бить прямо в лоб по домам, смотревшим на Вислу; посыпались стекла из окон, едва ли одно уцелело; гранаты влетали внутрь домов. Самодовольно смотрел 18-летний Ермолов на эту картину разрушения, внутренне приговаривая: это вам за сицилийские вечерни, и двадцать лет спустя он продолжил на несколько минут более, нежели следовало, действия артиллерии под Парижем, с не менее услаждавшей его мыслию: это вам, французы, за Москву».
В октябре 1794 года молодой Ермолов разрушал дома мирных жителей, причем гибли те, кто был внутри домов. Он шел на это. И не без удовольствия рассказывал об этом через добрых полстолетия.
Опыт польской войны, в особенности штурма Праги, отнюдь не ограничился для него чисто профессиональным опытом и удовлетворением мстительного чувства.
Один из участников обороны Праги, поляк Збышевский, оставил воспоминания, в которых сами боевые события выглядят не совсем так, как у русских мемуаристов:
«Печальное состояние Варшавы увеличивал вид несчастной Праги. Как только вышли из нее наши войска, разъяренный москвитянин начал ее грабить и жечь. Были вырезаны все без разбора. Даже в Варшаве были слышны вопли избиваемых и роковое московское ура.
Пожар начался от соляных магазинов, потом загорелось предместье у Бернардинов, наконец, запылал у моста летний дом Понинского.
Все это, вместе с воплями наших и яростью москалей, представляло ужаснейшую картину. <…> Были беспощадно умерщвлены, кроме тысячей других, мостовые комиссары: Уластовский, Концкий, Дроздовский и проч. Нашлись, однако, некоторые сострадательные московские офицеры, которые хотели защитить невинных жертв, но все их усилия не были в состоянии сладить с разнузданными солдатами, коим был позволен грабеж».
Трагедия Праги поразила Европу, несколько отвыкшую со времен Тридцатилетней войны от тотального избиения мирного населения.
Утверждения, что поляки и их европейские друзья преувеличили ужасы произошедшего, опровергаются самими русскими офицерами. Ермолов рассказывал Ратчу, что, когда умолкла фланговая батарея, он отправился посмотреть на действия войск: «здесь был он свидетель страшной резни при входе в улицы Праги».
Однако данные, записанные Ратчем со слов Ермолова, иногда нуждаются в корректировке.
Сохранился «Аттестат», данный генералом Дерфельденом капитану Ермолову по окончании Польской кампании и, скорее всего, по случаю отбытия его в Петербург:
«Находящийся при корпусе войск моей команды, Артиллерийского Кадетского корпуса артиллерии г-н капитан Ермолов, будучи прикомандирован к артиллерии авангардного корпуса, когда неприятель 15 октября, при деревне Поповке, против Кулигова у Буга, защищая мост, поставил свои пушки, то помянутый капитан Ермолов, приспев со своими орудиями и производя пальбу, сбил неприятельскую батарею. 23 числа с артиллерии господином капитаном и кавалером Бегичевым строил среди дня батарею под сильнейшею неприятельскою канонадою, по построении которой производил успешно пальбу; наконец, во время штурма, 24 числа октября, взъехал при первой колонне с артиллериею и, командуя 7 орудиями, поражал неприятеля и по городу производил пальбу, во всех тех случаях поступая как храбрый, искусный и к службе усердный офицер. В засвидетельствование чего дан сей, за подписанием и с приложением герба моего печати, в Праге, ноября 5 дня 1794 года».
Стало быть, Ермолов не только способствовал штурму огнем своей батареи и не просто отправился затем посмотреть на действия войск, но вместе с атакующей колонной ввел свои орудия на улицы Праги и громил предместье.
С одной стороны, это усиливает его боевые заслуги, с другой — делает участником той страшной резни, о которой он вспоминал как наблюдатель.
Ратч, комментируя рассказы Ермолова, приводит свидетельства из дневника гусарского поручика, участника штурма: «Резерв вступил в дымящийся город, улицы были завалены мертвыми и умирающими; а возле варшавского моста какое ужасное зрелище! Тут все смешалось вместе: тут люди, лошади, обоз в одной куче; тут я видел женщин и детей раздавленных, обгорелых; ужаснейшая была резаница. <…> На берегу Вислы поставлены были батареи и громили польскую столицу 4 часа без остановки».
Жестокость эту, как и свой обстрел варшавской набережной, Ермолов не без оснований приписывал реакции на избиение русских в Варшаве в начале восстания: «Французские писатели далеко утрировали кровавые сцены этой войны, но ни в одной войне мне не случалось видеть подобного ожесточения».