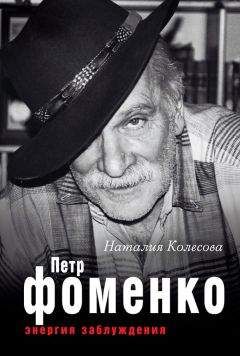Вскоре после встречи с Гончаровым я получила приглашение в театр Маяковского, где и осела, начиная с сезона 1959/60 года.
В 1966 году мы выпустили «Смерть Тарелкина». Репетировали довольно быстро, Петя пригласил на главные роли Лешу Эйбоженко и Сашу Косолапова (Охлопков все разрешил), я была беременна и готовила роль Маврушки. Мы репетировали в полном упоении, все его просто обожали. Были друзьями, он ведь старше нас всего-то на каких-нибудь пять лет. Женя Лазарев репетировал Расплюева, Игорь Охлупин – Оха. Петя предчувствовал, что у спектакля могут быть неприятности. На авансцене стоял гроб, в котором, по сюжету, вместо Тарелкина лежала дохлая рыба, воняла и всех отпугивала – никто не рисковал приблизиться. Все вертелось вокруг этого гроба. Моя Маврушка, служанка Тарелкина, ходила, заткнув нос, и гнусавила: «Ну, чаво тебе, чаво?» Текста у меня было немного, а присутствия на сцене гораздо больше – Петр Наумович относился к этому персонажу с симпатией и всюду совал Маврушку. На мне была черная репетиционная юбка («Никакого костюма не надо!»), мужская косоворотка, платок, повязанный так, что не видно глаз, и галоши, прикрепленные веревкой. Он придумывал необыкновенные вещи – на похоронах Тарелкина в траурной процессии вместо музыкантов шла Маврушка с тазом наперевес и била по нему колотушкой, как в большой барабан. Мне все нравилось – находки, шалости, хулиганство. Сразу было понятно, что спектакль получается страшно интересный. В Малом зале работа поначалу носила лабораторный характер, а уж когда мы перешли на основную сцену, на репетиции стали приходить серьезные комиссии. Большую сцену открыли полностью – далеко вглубь до кирпичной кладки – и поставили кубы друг на друга, наподобие мавзолея Ленина (художником спектакля был Николай Эпов). На ступенях стояли Ох и Расплюев и вели диалог: «Что там оспа или холера, эта болезнь сколько людей унесла, а вот если вурдалаки, Сибирь и кандалы…» И тут звучала мелодия песенки «Утро красит нежным светом», и двое – Шатала и Качала, один высокий, другой маленький, как Дон Кихот и Санчо Панса, – несли мимо мавзолея огромную палку, на которой висели костюмы всех сословий России. Такая недвусмысленная аллегория. А Расплюев и Ох важно в приветствии поднимали руку, как наши вожди во время парадов. В театре, как только это увидели, сразу пришли в ужас: «Вы что, Петр Наумович?» Атак как в спектакле было много опасных мест, Фоменко отвечал: «Это собака». То есть та «собака», к которой придираются, выгоняют, но на которой все остальное «проскочит». Так и вышло – запретили «Утро красит нежным светом», вождей на мавзолее, зато многое другое сохранилось. Но мы жалели эту мизансцену больше всего, забыть не могли – она была фантастической! И это в 1966 году!
Петр Наумович так строил весь спектакль – на хулиганстве, озорстве и очень глубоком понимании. Безумно интересен был монолог Тарелкина-Эйбоженко про эмансипацию: «Всегда везде Тарелкин был впереди. Едва заслышит он, бывало, шум совершающегося преобразования или треск отломки совершенствования, как он уже тут и кричит: вперед!!! Когда несли знамя, то Тарелкин всегда шел перед знаменем; когда объявили прогресс, то он встал и пошел перед прогрессом – так, что уже Тарелкин был впереди, а прогресс сзади! Когда пошла эмансипация женщин, то Тарелкин плакал, что он не женщина, дабы снять кринолину перед публикой и показать ей… как надо эмансипироваться. Когда объявлено было, что существует гуманность, то Тарелкин сразу так проникнулся ею, что перестал есть цыплят, как слабейших и, так сказать, своих меньших братий, а обратился к индейкам, гусям, как более крупным. Не стало Тарелкина, и теплейшие нуждаются в жаре; передовые остались без переду, а задние получили зад! Не стало Тарелкина, и захолодало в мире, задумался прогресс, овдовела гуманность…» Мой Саша настолько был потрясен игрой Леши и этим монологом, что с той поры помнил его наизусть. Актерская память, конечно, особая, но это был его любимый текст. Иногда, будучи в ударе, выпив рюмочку в театральной компании, он мог прочесть его полностью – монолог из чужой роли!
…Я вспоминала про тот эпизод из «балетного» прошлого Петра Наумовича, потому что он отозвался в нашем спектакле. Леша Эйбоженко пел дивный романс на стихи Саши Черного:
Благодарю тебя, Создатель,
Что я в житейской кутерьме
Не депутат и не издатель
И не сижу еще в тюрьме.
Благодарю тебя, Могучий,
Что мне не вырвали язык,
Что я, как нищий, верю в случай
И к всякой мерзости привык.
Благодарю тебя, Единый,
Что в третью думу я не взят, —
От всей души с блаженной миной
Благодарю тебя стократ.
Благодарю тебя, мой Боже,
Что смертный час, гроза глупцов,
Из разлагающейся кожи
Исторгнет дух в конце концов.
И вот тогда, молю беззвучно,
Дай мне исчезнуть в черной мгле, —
В раю мне будет очень скучно,
А ад я видел на земле.
Можете себе представить – написанное в 1907 году стихотворение, а как звучит в наше время! Мы с Эйбоженко под бравурную музыку вылетали вдвоем (я в галошах и платке, он в трико, этаком домашнем неглиже): это апофеоз Тарелкина, одурачившего всех – умершего и возродившегося. Мы летали из кулисы в кулису, он падал на кресло, брал меня к себе на колени, я болтала ногами, а он пел романс. К Сухово-Кобылину, возможно, это не имело прямого отношения, но придумано было потрясающе.
Не могу сказать, что их объединяло с Фоменко – может быть, Лешин талант, индивидуальность, деликатность, темперамент. В те годы Петя был очень заводной, хулиганистый, он ведь не был таким мэтром, каким я видела его в последнее время… У него была своя лексика, например: «Утопись в кулису». Он очень ценил Лешу, между ними была какая-то нить. (Как Гончаров любил Наташу Гундареву, на всех орал – на нее никогда. Она его понимала, как никто.)
Мой Саша играл роль Варравина в очередь с Сашей Косолаповым, которого Петя обожал и всегда ставил в первый состав. Косолапов отличался редкой независимостью и свободолюбием. Из нашего театра он не просто ушел, а уполз. По тогдашнему законодательству ему полагалось играть в репертуаре театра, а не в одном спектакле «Смерть Тарелкина». Дали ему роль Вестника в «Медее». Он выходил в алой тоге и в венке, приносил Медее весть об измене Ясона, за что его убивали. В конвульсиях ему полагалось уползти за кулисы. Начав еврипидовскую оду, он пополз, но одеяние за что-то зацепилось, актер оказался в синих семейных трусах и так скрылся за кулисами, дополз до лифта и сказал: «Я уползаю из театра. Боже, что я делаю? Я, отец двоих детей!»
Расплюев был самой гениальной ролью Жени Лазарева. Сделал ее, конечно, Петя, но она легла на индивидуальность актера, как ни одна другая. Он нигде так не играл! Как они сложили эту роль! А Охлупин играл Оха невероятным истуканом, балбесом… И Саша Косолапов был очень хорош. А в моем Саше в роли Варравина была порода, дворянство, которого не сыграешь – или есть, или нет.