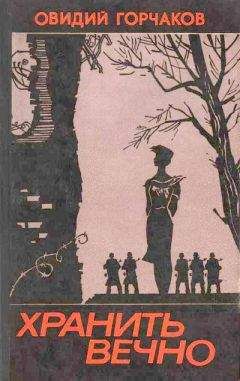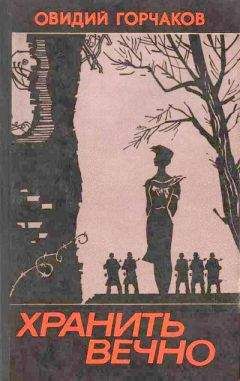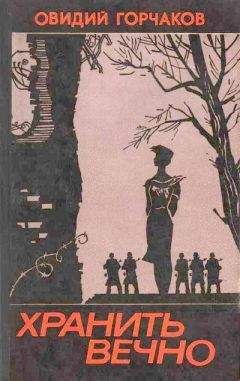Кто узнает, что они совершили в этой дыре! СС выше религии. Не для «черного корпуса» священные заповеди вроде «не убий»…
«Фюрербефель» — приказ фюрера, известно, превыше всего. «Моя честь — моя верность».
Был такой гитлеровский приказ: «Необходимая твердость не всегда применяется. Вероломных и жестоких партизан и дегенеративных женщин все еще продолжают брать в плен… Всякая снисходительность и мягкость есть проявление слабости и чревата опасностью…»
И вот — Красница капут! Аллее капут!
Все будут забыты. Все будет забыто.
Во имя высших идеалов германского духа надо преодолеть душевную дрожь, нервную слабость, надо найти в себе силы и мужество, чтобы справиться с нелегким, но нужным для рейха делом «умиротворения».
В приказе стояло именно это слово: «умиротворение». Чтобы было тихо и мирно, как на кладбище. Таков приказ.
И все-таки, наверное, немало было таких, что в этом крещении кровью по-эсэсовски выдавали глухой страх тем, что тратили больше патронов, чем требовалось, чем необходимо было для убийства. Такие явления иногда отмечались и порицались в приказах командования. Они стреляли не только в свои жертвы, в лицо старика и ребенка, в живот беременной женщине, но и в свою искалеченную совесть, в исковерканную душу, в боязнь расплаты, чтобы заглушить в себе все человеческое грохотом стрельбы, чтобы утопить ужас перед возмездием в реках крови.
И ничего не оставалось человеческого в их ретивых помощниках — местных полицаях, предателях и палачах своей Родины, своего собственного народа, презрительно прозванных народом «бобиками». Эти тоже убивали, тоже грабили. Норовили подчистить все до последнего гуся, до последней курицы. И если немцев-эсэсовцев нельзя было оправдать, но можно было попытаться понять, что сделало из них зверей, то полицаев, этих иуд, и понять было невозможно. И не было и не могло быть ни тем, ни другим никакого прощения. Во веки веков…
Когда мы приехали в Краспицу, пепелище еще дымилось. Я подошел к знакомой калитке. Калитка была сорвана, а за калиткой — ничего. Одна печка торчит с черным дымоходом да груда обугленных балок дымится. И почерневшие кусты и деревья в палисаднике со съежившейся листвой.
Я огляделся. Все исчезло! Приветливые жители Красницы, ставшие знакомыми, родными. Поседевшие, замшелые дедовские хаты, с окнами, встречавшими столько погожих и ненастных рассветов. С запечными сверчками и ласточкиными гнездами. С вечерними спевками девушек. Осиротевшие стежки, по которым еще вчера топали розовые пятки чумазых малышей… Теперь обрываются эти стежки на краю черного пожарища. Сотни человеческих сердец, вдруг переставших биться. Человеческие кости в еще горячей золе…
Все, что я видел вокруг, острой болью отдавалось в сердце, ранило мозг. В огне и дыму исчезло все, что веками накапливалось, годами наживалось. Кровью и потом все это доставалось, а крови и поту цены нет… Скрученная адским жаром железная кровать, черепки от горшков и крынок. Густой запах гари. Седой пепел, разносимый дыханием смерти по пашням и жнивьям. Пусто. Только мелькнет на грядках бездомная собака с поджатым хвостом, вылетит из обуглившихся цветов беспризорная пчела. Дома всюду сгорели дотла, шлях перестал быть улицей и потому словно вспух, стал похожим на насыпь… Безмолвными памятниками стоят вдоль шляха черные остовы печей, стоят неровным строем посреди пустынного, безлюдного поля, где вчера еще жила Красница. Кругом — звенящая, онемелая тишина, как после внезапно оборвавшегося, кровь леденящего крика. В немом вопле высоко воздеты к небесам руки колодезных журавлей. Словно взывают они о мщении…
Давно ли оглядывались мы с Щелкуновым на Краспицу и видели, как золотила утренняя заря соломенные шапки ее хат, как курчавился дымок над ее трубами!..
Тенями бродят по огромному кострищу сыны Краспицы, ее сироты — партизаны нашего отряда. Тяжело нам. А каково им! Все разом сгорело — дом, семья, родня, друзья детства. Из родины выжжена сердцевина…
По улице наш отрядный врач Юрий Никитич Мурашев и его жена медсестра Люда ведут под руки седую женщину с перевязанной парашютным перкалем головой. И руки у нее все в бинтах. Страшным голосом исступленно кричит она:
— Детские ангельские душеньки их прокляли! Будь они прокляты, прокляты, прокляты!..
— Одна из семьи осталась, — шепчет мне врач, стирая рукой пот, покрывший все его распаренное лицо. — Звери! Звери! Сто девяносто восемь дворов — дотла. Почти двести человек! Чудом спаслись Шадьков Семен, Зелепужин Евтихий, Бекаревич Анна, Перепечина вот Лукерья…
Губы у врача трясутся, взгляд почти такой же безумный, как у Лукерьи… Почти двести человек!..
Мог ли тогда знать Юрий Никитич, что такая же судьба была уготована карателями и его поселку Ветринке, из которого он ушел к нам в отряд, рабочим стеклозавода «Ильич», которых он лечил до весны сорок второго!
«Белорутены! — вдруг вспыхивает в памяти черный плакатный шрифт фашистского оккупационного лозунга. — Фюрер вас любит!» Слов нет, горяча любовь «фюрера-освободителя» к «освобожденным» белорутенам!..
Рыдая, наша партизанка-разведчица Вера Бекаревич целует обожженные руки старухи матери, обнимает плачущих племянников — Владика и Леню. Они в шоке, оцепенели, смотрят дико — бабушка их из огня вытащила..
На дороге, в пыли, валяются рамки с остатками меда. Это поджигатели, факельщики обжирались медом деда Минодоры. Обжирались и сплевывали воск. Не вкус меда, а вкус пепла чувствовал я во рту.
Из колодца воды не выпьешь — забита чистая криница черной золой.
За обгорелой яблоней показались двое. Впереди с почерневшим лицом идет Володя Щелкунов. За ним… да это Лявон Силивоныч! Они несут, как носилки, сорванную с петель калитку, а на ней что-то черное, обугленное, скрюченное. Нет, я не могу, у меня не хватит сил на это смотреть!..
Руки у деда в ожогах, в громадных волдырях и струпьях — копался, видно, в углях. Белая борода в саже. Измазанная копотью рубаха распахнута на впалой груди, на шее болтается медный крест на суровом шнурке. Взгляд его безумен, рот скошен в кривой улыбке.
— Вся вот сгорела, — бормочет он, поднимая на меня слезящиеся голубые глаза. — Девичье золотое колечко почти совсем расплавилось, а бусы я собрал… Нитка сгорела, так я бусы собрал. А я, старый, цел!.. Ее нет, а я цел!.. Выходит, нету бога! Или умер он… А пчелы все бунтуются, бунтуются пчелы, да…
Я что-то говорю деду, какие-то не те слова, но дед не слышит меня. А Щелкунов — на его руки тоже страшно смотреть — убитым голосом произносит:
— Он на лесной пасеке был, потому и уцелел. Тронулся дед… — А у Володьки глаза тоже сумасшедшие. — Рылись в углях. От боли, понимаешь, сердце у меня в обожженных руках билось. И мерещилось мне, будто это ее сердце в углях…