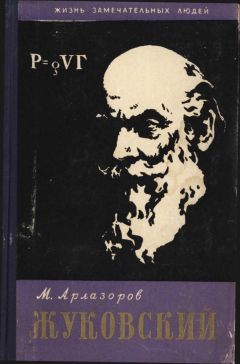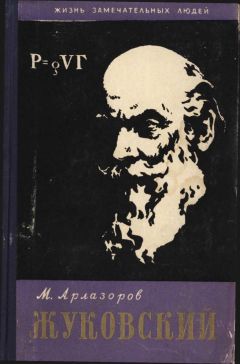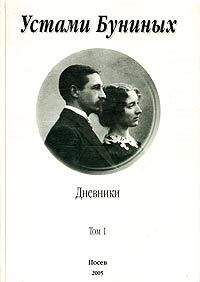Пребывание в пансионе не могло особенно ослабить первоначального настроения. Разлука с «милыми холмами» настраивала на печальный лад. В Московском университете еще действовали члены «дружеского общества»: поэт был в тесной дружбе с домом Тургеневых, знаком с Лопухиным и Карамзиным; многие из близких ему были масоны; к числу последних принадлежал и Прокопович-Антонский, наставник Жуковского, до конца жизни не оставивший знаменательной привычки, пожимая руки встречных, выщупывать от них безмолвный масонский ответ. Влияние этих людей, мистиков и пиетистов, падало на достаточно подготовленную почву. Также и иностранная литература, с которой теперь начал обстоятельно знакомиться поэт, в очень многих произведениях являлась сентиментальной и мистической, и муза Жуковского черпала оттуда полным ковшом родственные душе поэта мотивы.
Как известно, в общественных условиях той эпохи было достаточно причин, способствовавших мистицизму и пиетизму. Разочаровавшись в прелестях окружающей жизни, видя кругом себя немало тяжелых сцен, люди невольно отдавались туманным абстрактностям или религиозности, чтоб забыться от земной юдоли там, в мистической области, «горé»[1]… Было мрачное царствование Павла I. Россию усиленно ограждали от «тлетворного Запада, от чего бы то ни было, напоминавшего прогресс, развитие и проч. Эти слова считались страшнее жупела. Не разрешались круглые шляпы, цветные галстуки, из русского языка изъяли множество слов, и употребление их грозило наказанием провинившемуся. Ввоз иностранных книг и держание их книгопродавцами запрещались. Люди „посократились“, попрятались; в Москве зорко следил за обывателями строгий обер-полицмейстер Эртель. При таких условиях только и возможно было писать „Оды добродетели“ и „Мысли на кладбище“: для живого мало оставалось места в жизни.
Но невыгодные условия, в которых тогда находились привоз и продажа иностранных книг на родине, до известной степени помогли Жуковскому на его жизненном пути. Эти условия позволили ему утилизировать приобретенное в пансионе знание иностранных языков. Потребность в чтении в обществе чувствовалась, хотя и небольшая, и существовал спрос на иностранных авторов; но держать их сочинения, как мы сказали, книгопродавцам не позволялось. Отсюда явилась необходимость переводов, что позволило Жуковскому и иметь заработок, и увериться в своих силах, – обстоятельство, весьма благоприятное для дальнейшей деятельности.
Первые печатные опыты Жуковского на литературном поприще относятся к начальному году его пребывания в пансионе. В журнале «Приятное и полезное препровождение времени» была напечатана его статья в прозе «Мысли у могилы» с подписью: «Сочинил Благородного университетского пансиона воспитанник Василий Жуковский…» Не правда ли, каким архаизмом веет от этих пространных заглавий и подписей, которыми так отличались произведения тогдашнего времени?
Второе печатное произведение поэта было в стихах: «Майское утро». До 1801 года напечатан был ряд его статеек и стихов, в том числе стихотворение «Платону неподражаемому, достойно славящему Господа».
Все эти произведения, хотя в них и обнаружились уже зачатки тех поэтических мыслей, которые впоследствии с большим изяществом и стройностью формы высказывал Жуковский, были тяжеловесны, стих в них неуклюж, обороты казенные, и вообще все это мало напоминает того поэта, про «пленительную сладость стихов» которого говорит Пушкин.
Знание языков помогло Жуковскому пополнять свои скудные карманные деньги. В 1801 году он перевел роман Коцебу «Мальчик у ручья». Книгопродавец заплатил за него 75 рублей, что представляло солидный гонорар для того времени. Кроме этого, поэт переводил романы Шписа и пьесы Коцебу. Уезжая на летние вакации в «милое» Мишенское, Жуковский возил туда свои труды, и благосклонный ареопаг его слушательниц, приходивший в восторг от произведений друга «златых лет» юности, поддерживал и поощрял поэта к дальнейшей деятельности. Как мы раньше сказали, Жуковский привык отдавать свои произведения на суд этого ареопага с самого начала своего поэтического творчества.
Служба, как известно, являлась фатальным уделом для многих знаменитых деятелей русской литературы. И судьба как нарочно давала очень странные занятия нашим излюбленным писателям. Гоголя она определила в департамент – подшивать бумаги, причем искусившийся в этом деле «чинуша» третировал автора «Мертвых душ» как совершенно «пустякового» человека, неспособного даже подшить бумаги. На Пушкина судьба напялила камер-юнкерский мундир, в котором так неловко себя чувствовал великий поэт. Одинаково странным должно показаться нам и то обстоятельство, что Жуковский по окончании студенческого экзамена определился на службу в московскую контору соляных дел. Он впоследствии сам потешался над своей должностью, и мы лишь с трудом можем себе представить целомудренно-девственного поэта, меланхолического певца «дубрав и полей» среди «приказных строк», которыми кишели тогдашние служебные места.
Но служба, конечно, не могла удовлетворить поэта, и уже в 1802 году он вышел в отставку и в апреле возвратился в Мишенское.
Здесь Жуковский вступает в новую фазу своей жизни: он посвящает много времени самообразованию, приготовляясь к тому литературному служению, о котором не переставал мечтать. Приобретенная им в Москве библиотека была очень полезна для него. В списке его книг встречается, кроме французской энциклопедии Дидро, масса произведений французских, немецких и английских авторов. Жуковский был несомненно человек начитанный и образованный. Чтобы убедиться в этом, стоит, например, заглянуть хотя бы в недавно напечатанные «Записки» Смирновой; в ее салоне, где собирался цвет тогдашней литературы, дебатировались всевозможные вопросы, начиная от «тайн неба и земли» и кончая самыми запутанными историческими явлениями, причем и Жуковский выступал нередко в качестве оракула при разрешении возбужденных вопросов.
К периоду пребывания Жуковского в пансионе относится его знакомство с немецкой литературой и сильное увлечение ею. Мы позже скажем о произведениях Жуковского и его значении как поэта. Здесь же укажем лишь на то, что первые толчки к ознакомлению его с литературой немецкой дал Андрей Иванович Тургенев, страстно любивший Шиллера и Гете. «Это было чистое, исполненное любви к прекрасному сердце – душа всех радостей нашего кружка», – так отзывается Жуковский об этом рано умершем своем даровитом товарище. Вообще братья Тургеневы слыли «записными немцами».
Русская литература того времени, когда выступал Жуковский, поражала своей скудостью и незначительностью. Малокультурное русское общество, отсутствие мало-мальски обширного круга читателей, политические и общественные условия – все это, конечно, не способствовало расцвету мысли и появлению талантов. И русская литература по преимуществу питалась крупицами, падавшими с роскошного стола более культурных народов: она шла на буксире европейской мысли, усваивая, впрочем, часто в ней самое поверхностное, а нередко и извращая ее духовное содержание применительно к жизни тогдашнего полуазиатского русского общества. Ко времени появления Жуковского, как известно, наша литература (если только можно назвать этим именем тогдашнее ничтожное количество печатных памятников мысли) пережевывала главным образом псевдоклассическую жвачку, заимствованную с Запада. Эта литература, не имевшая никакого отношения к действительной жизни, трескучая и фальшивая, становилась невыносимо скучной в своих русских подражаниях. Европа уже пресытилась этой неудобоваримой пищей, но мы еще продолжали питаться ею: как известно, мы всегда запаздывали перенимать от Запада и обыкновенно брали к себе уже то, что в Европе было давно забраковано.