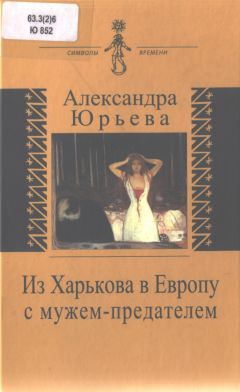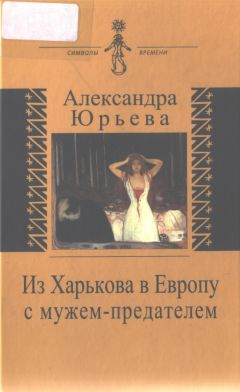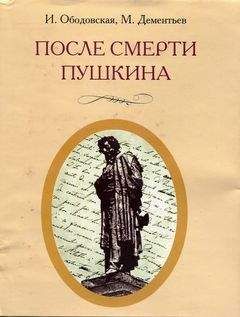Они были еще очень молоды, мама ходила мрачная и молчала, но не упрекала папу и не устраивала сцен. Когда он не мог сам выкрутиться из подобной ситуации, то начинал использовать ее жалость. Он сажал меня к себе на колени где-нибудь посередине квартиры, где мама могла пройти мимо и услышать, и говорил: «Вот видишь, дочка, до чего мы с тобой дожили. Никто, ну совсем никто не обращает на нас, обиженных, несчастных совершенно никакого внимания. И не верят, и не найдут нам никакого оправдания. Сразу сгоряча в чем-нибудь обвинят, и на этом продолжают настаивать. Нет у нас никакого выхода, и кушать нам нечего, даже прислуга на нас смотреть не хочет, никто не обращает никакого внимания. Ботинки вот у меня не вычищены. Никто ничего не готовит. Мы с тобой голодные. Хоть бы что-нибудь, какой-нибудь кусочек принесли. Нет ли у тебя, дочка, печенья или чего-нибудь там такого?» А я ему отвечала: «Нет, папа, никакого печенья у меня нет». «Ты хоть конфетку мне принеси, мы с тобой пососем», — говорил папа, и тут я от жалости к нему начинала громко рыдать. Это была шутка, какая-то инсценировка, для того чтобы обратить внимание мамы, разрядить атмосферу, рассмешить ее. И тогда мама махала на всю эту идиотскую историю рукой, но позже все начиналось сначала.
В дополнение к напряжению, вызванному неприятием отца семьей моей матери, они, будучи еще молодыми супругами, пережили трагедию потери своих четырех новорожденных детей. К этому присоединялось несколько безответственное поведение отца и его тяга к приятным и веселым компаниям. Его увеличивающийся доход от нефтяного промысла позволял проводить больше времени в ресторанах, чем в занятиях медициной. Моя обожающая его мать постоянно пыталась найти оправдания недостаткам отца, но в конце концов сумела убедить себя и меня в том, что он был удивительным человеком — умным, талантливым и порядочным.
Когда в 1914 году началась Первая мировая война, семья фон Коцебу в России отказалась от своей немецкой фамилии, изменив ее на Коссуч (по этой же причине британская королевская семья изменила свою фамилию Сакс-Кобург-Гота на Виндзор). Я еще была очень маленькая, поэтому смена фамилии ничего для меня не значила. В гораздо большей степени на меня повлиял переезд в Харьков вскоре после начала войны, чем великие события, происходящие вокруг меня. Позже большевики сделали Харьков столицей Украины, но в то время, когда мы туда переехали, Харьков являлся центром Харьковской губернии, генерал-губернатором которой был родственник мамы Митрофан Кириллович Катеринич.
Предлогом для переезда в Харьков была необходимость в новом методе лечения, разработанном знаменитым харьковским офтальмологом доктором Хиршманом. Я не знаю точно, когда папин доход от нефти начал уменьшаться или исчез вовсе, но, по-видимому, именно это, вопреки первоначальному плану, помешало нам вернуться в Ялту, где мы оставили почти все свои вещи. Возможно, папа откладывал возвращение потому, что его привлекала жизнь в большом городе, в котором остались многие его друзья со студенческих времен. В любом случае я уверена в том, что мои родители имели веские основания сменить нашу прежнюю удобную и приятную жизнь в Крыму на жизнь в большом шумном городе, где зимой было очень холодно, а летом слишком жарко и пыльно.
У одного из папиных харьковских друзей доктора Сурукчи была хорошо известная фешенебельная частная клиника в Харькове, пациентами которой были люди из привилегированных слоев общества. Когда началась война, доктор Сурукчи переделал клинику в госпиталь для лечения раненых воинов, и постоянно просил моего отца помочь ему в этой работе. Доктор Сурукчи имел способность убеждать, и я отлично помню, когда один из его друзей, знаменитый и любимый всеми Федор Шаляпин, приехал в госпиталь, чтобы выступить перед ранеными солдатами. Это было большим событием.
Харьков по-прежнему выглядел процветающим, и некоторое время наша жизнь была благополучной, хотя город постепенно наполнялся ранеными солдатами и беженцами из приграничных районов. Это было еще до революции 1917 года, когда там находились белые войска, а мне исполнилось 12 лет. Чтобы успокоить меня, когда я тосковала по Ялте, мои родители убеждали меня, что такой огромный город, как Харьков с его университетом и множеством разных школ, дает мне массу возможностей для дальнейшего культурного развития и получения образования.
Когда я была еще маленькой девочкой, меня отправили в танцевальную школу, где детей из так называемых приличных семей учили бальным танцам и искусству двигаться грациозно и естественно. Когда я стала старше, мама записала меня в Харьковскую балетную школу, в которой учились только девочки. Там были отличные преподаватели, некоторые с мировой репутацией, и учащихся принимали на конкурсной основе после строгих экзаменов.
Подруг по гимназии я почти не помню. Были, конечно, подруги, чьи родители были друзьями моих родителей. Приходила к нам одна семья, Кедрины, состоявшая из пяти человек, — мать Валентина Николаевна, отец, имя которого я не помню, потому что он был не совсем здоров психически, всегда сидел в кресле и странными глазами на всех смотрел. О нем избегали говорить и беседовать с ним, я только помню, что у него была небольшая черная борода. В семье росли три дочери — Людмила, моя самая лучшая подруга Нина, и самая красивая из них Лида. У нее были белокурые волосы и большие голубые глаза. Старшая тоже была красивой барышней, блондинкой лет 19–20 — уже совсем взрослой. Неразговорчивая, очень сдержанная, она с презрением относилась к нам, детям, и у нее была своя подруга. А моя подружка Нина была самой некрасивой из них, но, как я теперь понимаю, — самой интересной. У меня до сих пор есть ее фотография. У нее было необычное лицо и русые волосы. Мы очень дружили и виделись каждый день. Я также подружилась с девочками из балетной школы. Только моей и Нининой маме удавалось достать еду, чтобы хоть как-то нас прокормить. Они ходили на базар с какими-то своими вещами, которых почти уже не осталось, и продавали их.
Школа и домашние задания отнимали очень много времени. Кроме работы волонтером в больнице, я брала еще и балетные уроки. Поэтому у меня оставалось мало времени для чего-либо, кроме чтения. Мне редко удавалось встретиться со своими друзьями вне школы, не считая тех, кто жил рядом с нами.
Раньше вид сугробов из окон вызывал у меня только радостные чувства, в комнатах было натоплено, и все было таким незыблемо уютным и спокойным. Теперь же разницы в температуре между комнатами и улицей почти не было. Сугробы из того же самого окна казались синей смертью. Но мы не падали духом, не озлоблялись. О прошлой жизни старались часто не говорить, и не вспоминать о том хорошем, что было в том навсегда ушедшем, ласковом для нас мире.