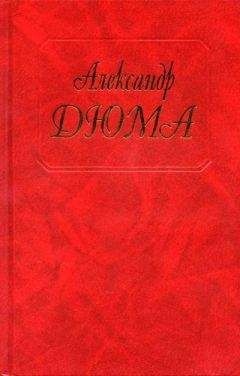И зачем же нам удивляться тому, что все увлечения, амуры и связи у Дюма были исключительно театрального характера?
Есть словесное, а потому и не особенно достоверное показание великого русского писателя, которого имя я не смею привести именно по причине скользкой опоры.
Говорят, что этот писатель как-то приехал к Дюма по его давнишнему приглашению и, как полагается европейцу, послал ему через лакея свою визитную карточку. Через минуту он услышал издали громоподобный голос Дюма:
— …Очень рад. Очень рад. Входите, дорогой собрат. Входите. Только прошу простить меня: я сейчас в рабочем беспорядке.
— О! Не стесняйтесь! Пустяки… — сказал русский писатель.
Однако когда он вошел в кабинет, то совсем не пустяками показалась его дворянскому щепетильному взору картина, которую он увидел.
Дюма без сюртука, в расстегнутом жилете сидел за письменным столом, а на коленях у него сидело прелестное, белокурое божье создание, декольтированное и сверху, и снизу; оно нежно обнимало писателя за шею тонкой обнаженной рукой, а он продолжал писать. Четвертушки исписанной бумаги устилали весь пол.
— Простите, дорогой собрат, — сказал Дюма, не отрываясь от пера. — Четыре последние строчки, и конец. Вы ведь сами знаете, — говорил он, продолжая в то же время быстро писать, — как драгоценны эти минуты упоения работой и как иногда вдохновение внезапно охладевает от перемены комнаты или места, или даже позы… Ну, вот и готово. Точка. Приветствую вас, дорогой мэтр, в добром городе Париже… Милая Лили, ты займи знаменитого русского писателя, а я приведу себя в приличный вид и вернусь через две минуты…
В течение всего вечера Дюма был чрезвычайно любезен, весел и разговорчив. Он, как никто, умел пленять и очаровывать людей. Среди разговора русский классик сказал полушутя:
— Я застал в вашем кабинете поистине прекрасную группу, но я все-таки думаю, дорогой мэтр, что эта поза не особенно удобна для самого процесса писания.
— Ничуть! — решительно воскликнул Дюма. — Если бы на другом колене сидела у меня вторая женщина, я писал бы вдвое больше, вдвое охотнее и вдвое лучше.
На что его изящная подруга возразила, кротко поджимая губки:
— Посмотрела бы я на эту вторую!
Все недолговечные романы Дюма проходили точно под большим стеклянным колпаком, на виду и на слуху у великого парижского амфитеатра, всегда жадно любопытного к жизни своих знаменитостей, как, впрочем, в меньшей степени, любопытны и все столичные города. Каждое его увлечение сопровождалось помпой, фейерверком, бенгальскими огнями и блистательным спектаклем, в который входили: и неистовые восторги, и адски клокочущая ревность, и громовые ссоры, и сладчайшие примирения; тропическая жара перемежалась полярной стужей, за окончательным разрывом следовало через день нежнейшее возвращение; бывали упреки, брань, крики и слезы и даже, говорят, небольшие потасовки. И так же театрально бывало действительно последнее, на этот раз неизбежное расставание. Бывшая подруга и вдохновительница собирала в корзины свои тряпки, шляпки и безделушки, а Дюма носился по комнате в одном жилете, с растрепанными волосами, с домашней лесенкой в руках, похожий на ретивого обойщика. Он приставлял эту стремянку то к одной, то к другой стене, торопливо взбирался по ней и, действуя поочередно молотком и клещами, срывал ковры, картины, бронзовые и мраморные фигурки, старое редкое оружие. Спеша ускорить отъезд замешкавшейся временной супруги, он лихорадочно помогал ей.
— Все! — кричал [он]. — Возьми себе все. Все. Все. Оставьте мне только мой гений.
Возможность такого курьезного случая я считаю вполне достоверной. Известный переводчик И. Д. Гальперин-Каминский, близко и хорошо знавший Дюма-сына, не раз повторял мне то, что он слышал из уст Александра Александровича Дюма II.
Дюма-младший был свидетелем такой трагикомической сцены в ту пору, когда он был еще наивным и невинным мальчиком и не особенно ясно понимал различие слов.
— Меня очень удивляло, — говорил он впоследствии г. Каминскому, — почему папа с такой яростной щедростью дарит много чудесных дорогих вещей и в то же время настойчиво требует, чтобы ему оставили какой-то его жилет. Я думал: «А может быть, этот жилет волшебный?»[3]
Нелепо пышным апофеозом, блестящим зенитом была та пора в жизни Дюма-отца, когда он купил в окрестностях Парижа огромный кусок земли и при ней чей-то старинный замок. Этот замок Дюма окрестил «Монте-Кристо» и перестроил его самым фантастическим образом. В нем было беспорядочное смешение всех стилей. Дорические колонны рядом с арабской вязью: рококо и готика, ренессанс и Византия, персидские ковры и гобелены… И множество больших и малых клеток с птицами и разными зверьками. Чудовищнее всего была огромная столовая. Она была устроена в форме небесного купола из голубой эмали, а на этом голубом фоне сияло золотое солнце, светились разноцветные звезды и блуждала луна…
Шато «Монте-Кристо» с его бесчисленными комнатами всегда, с утра до вечера, было битком набито нужными и ненужными, а часто и совсем неизвестными людьми. Каждый из них ел, пил, спал и развлекался, как ему было удобнее и приятнее. Право, если такой жизненный обиход можно с чем-нибудь сравнить, то только с жизнью русских вельмож XVIII столетия.
Но уже в эти роскошные дни бедный Дюма, перевалив незаметно для себя самого высокую вершину своей жизненной горы, начинал катиться вниз с роковым ускорением. Этот беспечнейший из писателей никогда не знал размеры своих долгов и по-детски верил в то, что его кредит безграничен. Но уже показывались в его бюджете роковые предостерегающие трещины…
И здесь к месту один почти трогательный анекдот.
Рядом с владениями Дюма купил землю и соседний замок какой-то миллионер-нувориш. Чтобы достойно отпраздновать новоселье, этот свежеиспеченный «проприо» привез из Парижа большую и пеструю компанию вместе с обильным грузом шампанского вина. Но он забыл позаботиться о том, чтобы заранее запастись льдом, а пирушка предполагалась от вечерней зари до утренней.
Лед возможно было достать только в одной гостинице, которая находилась как раз на меже имений миллионера и Дюма.
Однако миллионер давно уже слышал о том, что хозяин этой остелери — человек характера независимого, грубоватого и брыкливого. На денежные соблазны он мало обращал внимание; был очень богат, чувствовал себя в своем кабачке независимым королем и вскоре собирался задорого продать насиженное место, чтобы удалиться на заслуженный и комфортабельный покой.
Но, с другой стороны, «проприо» знал и то, с каким обожанием относились люди попроще к Дюма не только за его обольстительные сочинения, доступные каждому сердцу, но и за его личное обаяние.