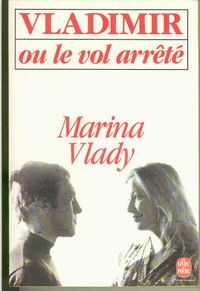В это утро я наконец привожу тебя познакомиться с ней на съемки фильма режиссера Рене Аллио «Трудный день королевы». Когда я тебе сказала, что это в пригороде, в рабочем квартале, ты еще больше обрадовался. Чем ближе ты знакомишься с Парижем, тем больше он тебе нравится. Прием теплый. Съемочная группа на всех широтах одинакова, при любом режиме. Ты выдерживаешь пристрастный допрос Симоны, которому она подвергает всех, кого видит впервые, и даже знакомых, уезжавших куда-нибудь надолго. Это смесь резких вопросов, острого любопытства и мягкости. Ты покорен. Чувствуется, что в этой даме пятидесяти двух лет не осталось ничего от той роковой женщины из знаменитых фильмов, но мужчины все равно в нее влюбляются, и именно потому, что она — по-настоящему человек. К тому же глаза ее полны блеска и улыбка все такая же хищная.
Потом мы расстаемся, договорившись встретиться за ужином у нее дома. В машине я вижу, как ты напряжен. Ты чувствуешь себя не в своей тарелке, и я засыпаю тебя вопросами:
— Что случилось? Откуда это плохое настроение?
Ты не сразу отвечаешь.
— Ты видела эти дома? Это здесь называется рабочим кварталом?!
И снова — печаль, сожаление и гнев поднимаются в тебе.
— Все эти дома, где живут небогатые люди — «эксплуатируемые», как их у нас называют, — да у нас ни один аппаратчик не мог бы надеяться на лучшее! Этот квартал, эти краски, эти лавочки, эти машины!..
У тебя срывается голос. Я молчу, да и что скажешь?..
После долгой паузы твое лицо смягчается:
— Такая замечательная женщина! Она хитрая, она все поняла, и потом видно, что она любит приложиться к бутылочке.
И — после паузы:
— Она тоже…
Я не продолжаю этой темы. Я знаю, до какой степени давит на тебя теперь твое добровольное состояние непьющего.
Я буду встречаться с Симоной еще несколько лет. Тот ужин не состоялся: работа, поездки — в нашей профессии это обычное дело. Но встречаться мы всегда будем тепло и будем болтать, как если бы никогда не расставались. В семьдесят седьмом году ты приезжаешь на гастроли с «Гамлетом» и остаешься немного дольше обычного в Париже. В один из свободных вечеров мы идем к Монтану и Симоне на площадь Дофин в «каморку», как они называют свою квартиру, окна которой выходят прямо на тротуар оживленной улицы.
Это — уютная обжитая квартира. Здесь множество фотографий и сувениров, привезенных с гастролей, со съемок, из поездок. В квартире всегда живет кто-нибудь из посторонних — какие-то беженцы, люди без родины, странные путешественники всех национальностей. Единственное, что их сближает, — это страдание от несправедливости, которая убивает их морально или физически. Здесь они находят внимательных слушателей, братскую помощь, а зачастую просто средства на жизнь. Усевшись за низким столом, Симона, несколько друзей, ты и я страстно спорим, потому что волнующих тем хватает.
Я измучилась переводить с бешеной скоростью. Уставшая Симона немного повторяется, и я сама перестаю находить нужные слова. Ты, единственный трезвый человек в компании, тянешь меня к двери, говоря, что у меня уже язык заплетается. Я обижаюсь, и вечер заканчивается скандалом. На следующее утро мне стыдно, потому что я знаю, что, как и все по-настоящему больные от алкоголя люди, ты не любишь, чтобы твои близкие «позволяли себе». И потом, я впервые видела Симону, от которой ускользала нить рассуждений.
Вчера даже у нее «заело пластинку», как говорят люди нашей профессии. Я отправляю ей письмо, полное нежности, где высказываю свои опасения, говорю, что ее физический облик — это ее личное дело, но что ее голова еще нужна остальным… Об этом я тебе, естественно, не рассказывала.
1980 год. На экране телевизора появляется торжественно спокойное лицо Симоны. Она говорит о тебе. Она говорит, каким ты был поэтом и человеком, рассказывает, как московская толпа, официально не оповещенная, провожала тебя на кладбище. И в ее прозрачных, почти невидящих глазах чувствуется огромная сила, в каждом слове сквозит глубокая грусть.
1984 год. Я ужинаю с Симоной в Кибероне. Два дня назад она отдала мне пачку исписанных листочков — свой роман. Она сказала:
— Я назвала книгу «Прощай, Володя!».
Я побелела. Почувствовав мое волнение, она добавляет:
— Это не твой, но они похожи, как братья, — вот увидишь…
Мы с сестрами прочли этот роман втроем, сидя за круглым столом, вырывая друг у друга листочки, смеясь, плача, охваченные одними и теми же эмоциями, — может быть, потому, что мы не можем забыть один день, проведенный на улице Университэ у нашей сестры Одиль; сидя вокруг большого стола, на котором громоздятся кипы страничек, мы читали тогда впятером — четыре сестры Поляковы и Симона — нашу книгу «Бабушка». Мы волнуемся, и вот звучит приговор:
— Неплохо, но я уверена, что здесь было из чего сделать потрясающую книгу.
Теперь мы читаем книгу Симоны, и я чувствую, как ее лихорадит. Мы с сестрами наперебой делаем ей комплименты. Для нас эта книга действительно удалась. Теперь остается ждать приговора публики. Это будет полный успех.
22 сентября. Я читаю Симоне главу из тисненного золотом издания ее книги «Тоска уже не та», где она пишет о России.
Ее глаза мерцают, как слепые звезды. И вдруг она говорит мне:
— Ты должна писать…
24 сентября. Симона чувствует себя все хуже. Мне все-таки удалось уговорить ее поесть. Я привезла специально для нее блины с икрой. Впервые за долгое время она ест, даже с удовольствием. И все же, дожевывая блинчик, она не забывает мне сказать:
— Ты должна писать…
Я принесла несколько листочков и робко читаю их Симоне. Она говорит:
— Продолжай.
25 сентября. Мы потихоньку прогуливаемся перед домом, Симона начинает снова:
— Ты должна писать.
Вечером она выкуривает последнюю сигарету:
— Дорогая моя, пиши о Володе…
30 сентября восемьдесят пятого года. Тело Симоны покоится на кровати. Я громко говорю в тишине светлой комнаты:
— Я сделаю это, я обещаю тебе.
Красный огонек неистово мигает, актеры на сцене убыстряют ритм, в игре — напряжение. Я потихоньку поворачиваю голову и различаю в глубине зала силуэт в ореоле непослушных волос. Это — Юрий Петрович Любимов, «шеф». Он держит в руках придуманный им фонарик: белым освещается его собственное лицо, когда он хочет уточнить мимику или указать на плохое движение, слишком быстрый темп, автоматическую игру. Зеленый свет означает, что все идет хорошо, красный — что нужно сменить ритм, что он недоволен, что актеры играют не с полной отдачей. Его невозможно обмануть: он сам — актер, он прекрасно видит, когда на сцене кто-то бережет силы. Что удивительно в этом человеке — он это и сам признает, — он не был большим актером, он выглядел на сцене лишь миловидным молодым человеком. Он обрел свое настоящее призвание, став сначала педагогом, затем — режиссером театра.