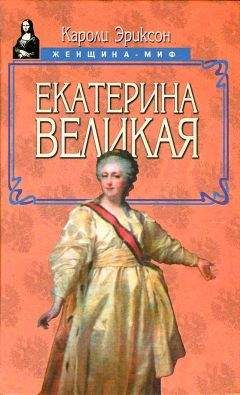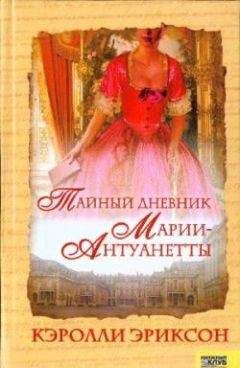Купаясь в восхищении Понятовского, Екатерина ощутила прилив необыкновенной смелости и вступила на путь рискованной и волнующей любовной авантюры.
Понятовский вполне устраивал ее, уж во всяком случае он был куда лучше высокого и бледного графа Лендорфа, которого ей пытался подсунуть Бестужев в надежде, что он поможет ей забыть Салтыкова. Лендорф обладал недурной внешностью, но Понятовский превосходил его своей нежностью, перед которой все таяло, и заботливостью, что стала бальзамом для раненой души Екатерины. К тому же он принадлежал к окружению ее дорогого друга, британского посла, разделял ее увлечение французской литературой и точно так же преклонялся перед английской формой правления. Сейчас трудно судить о том, каких высот достигла их страсть. Из писем Понятовского можно заключить, что он был чрезвычайно чувственным, поэтическим мужчиной, который больше смерти боялся кого-либо обидеть.
Однажды ему показалось, что он вызвал недовольство Чарльза Хенбери-Уильямса. Огорченный этим, он заявил, что бросится с высокой стены. Перепуганный посол простил ему небольшую оплошность, которую тот совершил, и умолял его не губить свою жизнь из-за такого пустяка.
Хотя Петр относился к этой связи безразлично, а иногда Даже добродушно подшучивал над ними, все же надо было соблюдать внешние приличия. Екатерина вообще обожала все, что носило на себе флер таинственности. Она любила устраивать торопливые, недолгие свидания. Ей нравилось сознавать, что каждую минуту их могут застать в очень пикантном положении случайно вошедший гвардеец или слуга и донести об увиденном императрице. Они старались встречаться как можно чаще, по меньшей мере еженедельно, а иногда два-три раза за неделю. Лев Нарышкин предоставил им укромное местечко за пределами дворца, и Екатерина, которая не могла доверять своим фрейлинам, тайком выбиралась из своих покоев, надев штаны, рубашку и куртку, взятые напрокат у калмыка-парикмахера, и отправлялась в особняк Нарышкина. Несколько раз, задержавшись там в любовных утехах до глубокой ночи, она должна была возвращаться во дворец пешком одна, бросая вызов опасностям, которые могли подстерегать ее на темных петербургских улицах.
«Мы извлекали особое удовольствие из этих встреч украдкой», — писала она в своих мемуарах, вспоминая о свиданиях с Понятовским. Разумеется, она наслаждалась ими. Понятовский, зная о том, что случилось с Салтыковым после его интимных отношений с Екатериной и начитавшись книг, где говорилось о том, как жестоко обращаются русские княгини со своими любовниками, наверняка вел себя очень осторожно.
Тайные отлучки из дворца, переодевание, необходимость обманывать соглядатаев, и наконец, сладкое возбуждение в объятиях любимого — все это преобразило Екатерину. Ее щеки опять пылали румянцем, а в глазах появился особый блеск увлеченной женщины. Шевалье Д'Эон, французский шпион, видевший ее в это время, оставил нам весьма памятное описание Екатерины.
«Великая княгиня — романтичная, страстная, пылкая; ее глаза блестят, завораживают, они прозрачные, в них есть что-то от дикого зверя. У нее высокий лоб и, если я не ошибаюсь, на этом лбу написано долгое и устрашающее будущее. Она приветлива и любезна, но когда она проходит рядом со мной, я инстинктивно сжимаюсь. Она пугает меня».
Шевалье сумел разглядеть в Екатерине нечто иррациональное, унаследованное от мира хищных животных. Она всегда таила в себе дикарку, даже в детстве. Теперь же, напоминая зверя, вырвавшегося из клетки, она бродила на воле — хотя ее воля имела четко очерченные границы и она никогда не забывала о них. В действительности это была лишь видимость свободы, потому что ее связь с польским ангелоподобным графом недолго оставалась тайной для двора. К этому относились терпимо прежде всего потому, что политическая направленность Понятовского была вполне приемлема для Бестужева и его высочайшей повелительницы.
Екатерина и Понятовский были любовниками полгода с небольшим: в августе 1756 года его отослали назад в Польшу. Головные боли и тошнота начались у Екатерины вскоре после отъезда Станислава, и она полагала, что Понятовский оставил ее беременной. Она пустила в ход все свое влияние, чтобы его отозвали из Польши ко двору императрицы. Но на сей раз у нее были другие чувства. При расставании с Салтыковым преобладало отчаяние и боль уязвленного самолюбия. Причины же разлуки с Понятовским были совсем иными. Вдобавок на нее навалились тревоги и заботы, вызванные состоянием здоровья императрицы.
Несмотря на постоянное подташнивание и головные боли, Екатерина большую часть времени проводила за письменным столом. Она до глубокой ночи напряженно ждала бюллетеней из покоев больной Елизаветы. Она сама исполняла обязанности своего секретаря, читала документы, писала ответы, сносясь с верными людьми, покрывая лист за листом толстой писчей бумаги своим размашистым почерком. «С семи часов утра и до сего момента, — писала она Хенбери-Уильям-су, — за вычетом часов на обед я только и делала, что писала и читала документы. Разве нельзя сказать обо мне, что я государственный министр?»
Екатерина все больше чувствовала груз ответственности, который» вскоре может лечь на ее плечи. Несколькими годами раньше она взяла на себя управление голштинским владением мужа, который был рад избавиться от такой обузы. Екатерина же вникала во все дела и, распоряжаясь, входила во вкус власти. Теперь ей предстояло управлять целой империей — задача всепоглощающая и изнуряющая, особенно если учесть тогдашнее состояние Екатерины. Но эта цель и вдохновляла.
Закончив работу с документами, Екатерина принималась за другое дело — писала мемуары.
Ей исполнилось всего лишь двадцать семь лет, но ее жизнь была богаче событиями, чем у шестидесятилетних женщин. Почти половину ее она провела в России, борясь с суровым климатом и враждебным отношением двора. По предложению Хенбери-Уильямса она пыталась перенести на бумагу воспоминания о своем детстве, о том, как развивался ее ум и характер, о своем замужестве. Эго был такой род деятельности, который годился как раз для нее. Развитое чувство самоуважения, достоинства, разум — всем этим качествам, которые поддерживали ее в долгих испытаниях, — предоставлялось теперь слово.
Дни становились все короче, погода холоднее. Сквозняки хозяйничали в спальне старой императрицы, которая лежала бледная и неподвижная под горой меховых покрывал. Прошла неделя. Изношенные легкие все еще гнали через себя воздух, в ссохшемся горле что-то булькало, свидетельствуя о жизни, упрямо тлевшей в теле Елизаветы. Старухи, бессменно дежурившие у смертного одра, начали многозначительно переглядываться и перешептываться.