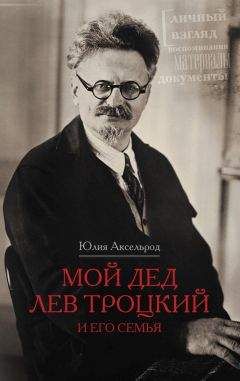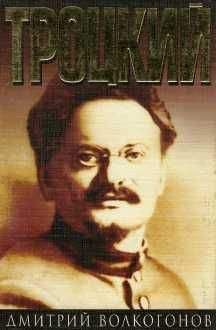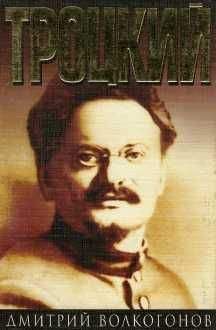26 июня [1935 г.]
Продолжаю хворать. Поразительна у меня разница между здоровьем и больным состоянием: два человека, даже во внешнем облике, притом иногда на протяжении 24 часов. Отсюда естественное предположение, что дело в нервах. Но врачи давно уже – в 1923 – установили инфекцию. Возможно, что «нервы» придают внешним выражениям болезни такой резкий размах.
Этой ночью, вернее уж утром, снился мне разговор с Лениным. Если судить по обстановке, – на пароходе, на палубе 3-го класса. Ленин лежал на нарах, я не то стоял, не то сидел возле него. Он озабоченно расспрашивал о болезни. «У вас, видимо, нервная усталость накопленная, надо отдохнуть…» Я ответил, что от усталости я всегда быстро поправлялся, благодаря свойственному мне Schwungkraft [157] , но что на этот раз дело идет о более глубоких процессах… «Тогда надо серьезно (он подчеркнул) посоветоваться с врачами (несколько фамилий)…» Я ответил, что уже много советовался, и начал рассказывать о поездке в Берлин, но, глядя на Ленина, вспомнил, что он уже умер, и тут же стал отгонять эту мысль, чтоб довести беседу до конца. Когда закончил рассказ о лечебной поездке в Берлин, в 1926 г., я хотел прибавить: это было уже после вашей смерти, но остановил себя и сказал: после вашего заболевания…
Н. устраивает наше жилье. В который раз! Шкафов здесь нет, многого не хватает. Она сама вбивает гвозди, натягивает веревочки, вешает, меняет, веревочки срываются, она вздыхает про себя и начинает сначала… Две заботы руководят ею при этом: о чистоте и о приглядности. Помню, с каким сердечным участием, почти умилением, она рассказывала мне в 1905 г. об одной уголовной арестантке, которая «понимала» чистоту и помогала Н[аташ]е наводить чистоту в камере. Сколько «обстановок» мы переменили за 33 года совместной жизни: и женевская мансарда, и рабочие квартиры в Вене и Париже, и Кремль, и Архангельское, и крестьянская изба под Алма-[А]той, и вилла на Принкипо, и гораздо более скромные виллы во Франции… Н. никогда не была безразлична к обстановке, но всегда независима от нее. Я легко «опускаюсь» в трудных условиях, т. е. мирюсь с грязью и беспорядком вокруг, – Н. никогда. Она всякую обстановку поднимет на известный уровень чистоты и упорядоченности и не позволит ей с этого уровня спускаться. Но сколько это требует энергии, изобретательности, жизненных сил!..
…Прожили мы с Н. долгую и трудную жизнь, но она не утратила способности и сейчас поражать меня свежестью, цельностью и художественностью своей натуры.
Лежа на шезлонге, я вспоминал, как мы подвергались с Н. санитарному досмотру на пароходе по прибытию в Н[ью]-Йорк в январе 1917 г. Американские чиновники и врачи были очень бесцеремонны, особенно с пассажирами не 1-го класса (мы ехали во втором). На Наташе была вуаль. Врач, интересующийся трахомой, заподозрил неладное за вуалью, быстро приподнял ее и сделал движение пальцами, чтоб приподнять веки… Н. не протестовала, ничего не сказала, не отступила, она только удивилась, вопросительно взглянула на врача, лицо ее занялось легким румянцем. Но грубоватый янки сразу опустил руки и виновато сделал шаг назад, – такое неотвратимое достоинство женственности было в ее лице, в ее взгляде, во всей ее фигуре… Помню, какое у меня было чувство гордости за Наташу, когда мы с парохода переходили по сходням на пристань Нью-Йорка.
1 июля [1935 г.]
…Knudsen сообщил, что фашисты собирают в Drammen (60 километров отсюда) митинг протеста против моего пребывания в Норвегии. По словам К., они соберут, будто бы, не больше 100 человек.
Кто-то из советских чиновников снял дачу поблизости от лесной дачки нашего хозяина. Это волнует H., – по-моему, совершенно без основания.
13 июля [1935 г.]
…За последние годы я приучился диктовать статьи по-французски и по-немецки, диктовать сотрудникам, которые способны тут же исправлять мои синтаксические ошибки (а они не редки). Овладеть каким-либо иностранным языком полностью мне не дано.
В английском языке (который знаю совсем плохо) я продвигаюсь теперь вперед при помощи усиленного английского чтения. Иногда ловишь себя на мысли: не поздновато ли? стоит ли расходовать энергию не на познание, а на язык, оружие познания?
В Турции мы жили «явно» для всех, но под большой охраной (три товарища, два полицейских). Во Франции мы жили инкогнито, сперва под охраной товарищей (Barbizon), затем одни (Isere). Сейчас мы живем открыто и без охраны. Даже ворота двора днем и ночью раскрыты настежь. Вчера два пьяных норвежца приходили знакомиться. Побеседовали мы с ними честь честью и разошлись.
30 июля [1935 г.] …На днях во двор пробрался фашистский журналист (из еженедельника ABC), подкрался, прилипая к стене, и снял нас с Н. на шезлонгах. Когда Н. повернулась к нему, он бросился наутек. Хорошо, что в руках у него был только фотоаппарат. Ян нагнал его в деревне, откуда он заказывал автомобиль по телефону. Бедный фашист дрожал от страха, клялся, что не снимал и пр. Но фотография появилась в ABC с грозной статьей: наблюдает ли полиция за разрушительной деятельностью Тр[оцкого]? Снимок не оправдывал этого тона: мы мирно лежали на складных стульях…
8 сентября [1935 г.]
Давно ничего не записывал. Приезжал доктор из Р[ейченберга, Чехословакии], очень дружественный, «свой», – лечить. Заставил много гулять, чтоб проверить ход болезни. Положение сразу ухудшилось. Анализы, по обыкновению, ничего не дали. Так прошло две недели. После отъезда доктора я перешел на лежачий образ жизни и скоро поправился. Начал работать, все больше и больше. Нашли русскую машинистку, – это для меня спасенье, в буквальном смысле слова. Стал диктовать – очень много, легко, почти без утомления. В таком состоянии нахожусь и сейчас. Вот почему о дневнике и думать забыл.
Вспомнил о нем потому, что вчера получились от Левы копии писем Александры] Льв[овны Соколовской] и Платона! От Сережи и о Сереже нет ничего: весьма вероятно, что сидит в тюрьме…
Письма Александры Львовны и Платона говорят сами за себя.
14 августа 1935 г.
Дорогой Лева, меня уже сильно беспокоило отсутствие писем от Вас. Наконец-то пришла весточка о Севушке. Как хорошо, что он уже с Вами, этот маленький мальчик. Отец его в Омске и запрашивает о сынишке. Писать ему пока «до востребования». Мне кажется, что Вы моего последнего письма не получили. Я Вам писала, что дети Нины живут с сестрой в Кирово (Украина). Сестра моя очень больной человек, и я не знаю, как ей удалось с детьми, без всякой помощи, перекочевать туда. Адрес ее: Кирово, Одесская область, ул. Карла Маркса, д. 4, кв. 13. Детишки все надеялись на скорое свидание с отцом (Ман), но придется им подождать еще два года. Я очень тронута, как всегда, Вашим внимательным отношением ко мне. Сюда посылать денег не имеет смысла – их здесь и реализовать негде. Все мои нужды удовлетворяются посредством посылок от сестры [158] . Здесь почти ничего нельзя достать, даже овощей.