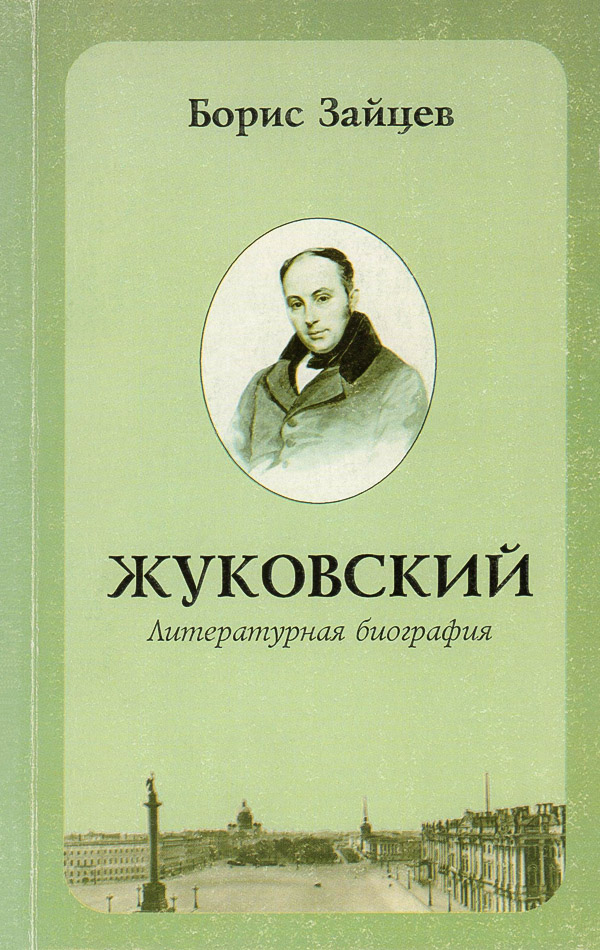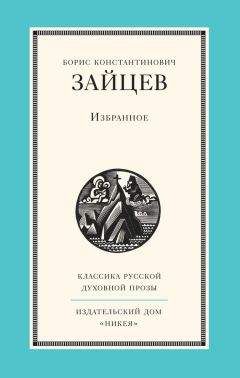страсть учительства. Он в разгаре «Переписки с друзьями», в настроении этой поразительной книги, где детские страницы перемежаются с гениальными, где все «выпелось» из души, все значительно и необычайно, даже нелепое.
А Жуковский тут под боком. Пишет свою «Одиссею», читает песни ее вслух Гоголю, чрезвычайно его восхищает ею — тот пишет даже статью об «Одиссее» в «Переписке», ожидает от труда друга своего великих последствий. Но хочется и учить Жуковского. Завладев многим в повседневности дома, хорошо бы и самого хозяина подчинить. Способ теперь излюбленный — письма. Живет у него же, ему же и пишет. Вот в письме упрекает в том, что Жуковский, так богато награжденный Богом (талант, известность, семья в старости), все же «не может переносить и малейших противоположностей и лишений». Пусть он в минуту тревоги и тоски просто подойдет к столу, возьмет это письмо и обратится к Богу — с просьбой, со слезами… — «и — вы их победите». Достаточно обратиться к Богу с письмом Гоголя — и все будет отлично. (На языке церковном такое самообольщение называется «прелестью», явлением болезненным: это не настоящее.)
Надо думать, что Жуковский терпеливо принимал все это. По крайней мере, отношения их не только не испортились, а наоборот укрепились. Обоим было трудно, в некотором смысле они друг друга поддерживали.
Жуковский в то время был очень одинок литературно. Возраст немалый, чужбина… «Одиссея» же и вообще на. любителя. Публике она чужда. А ближайшая душа, Елизавета Алексеевна, ничего по — русски не понимала. Были слушатели, которые могли заслонить толпу, — Хомяков, Тютчев, — но они залетные, случайные. Гоголь же рядом, и не только по части «Одиссеи», но и вообще в главнейшем они близки.
Когда вышла в свет «Переписка с друзьями», одиночество Гоголя тоже возросло. Все бранили ее, даже духовные лица, только не Жуковский. Находили в ней позу, учительство, мракобесие и надменность. Жуковский ее принимал. Он не раз Гоголя поддерживал, в течение его жизни, материально. Теперь, в горькую полосу поношений, заушений, одиноко и верно заступился за него. Лишний раз показал при том, как правильно и дальновидно судил. Сам не модный тогда писатель, идя наперекор общему мнению (даже людей родственного духа), намного обогнал в суждении о «Переписке» век свой. Не все было ему открыто в Гоголе, но многое. Гораздо больше, чем другим.
* * *
Первое чтение «Одиссеи» связано с молодостью, июньскими днями русской деревни, запахом лип цветущих, покоса. Покачиваясь в гамаке, покачивался в музыкальных гекзаметрах. Поэзия светлая — древность смягчалась в ней веянием новым.
«Не совсем Гомер», думалось, вспоминая недавнее еще ученическое чтение отрывков его в подлиннике. Но очаровательно. И притом перевод точный. Много страшного и первобытного, но едва заметным движением слов, их музыкой, кой — где добавлением, кой — где облегчением дается иной оттенок и целому. Получается грустнее, чем у Гомера, трогательнее и «душевнее», ибо прошло сквозь христианское сердце.
Все это подтвердилось, когда через сорок лет эту же «Одиссею» пришлось перечитывать светлою осенью под Парижем, и тоже в деревне, — тут уже сличались и некоторые стихи с дословным изображением подлинника.
Жуковский не знал греческого языка. Немецкий профессор слово в слово перевел ему «Одиссею» — собственно, даже не перевел, а над каждым словом Гомеровым надписал соответственное немецкое.
Сквозь дикую пестроту эту Жуковский пытался «угадывать» Гомера. Точнее было б сказать: и угадывать и самому что — то говорить, Гомером пользуясь, — так он делал и раньше. Он и здесь остается Жуковским зрелости своей. Что могло его так привлекать теперь в «Одиссее»? Не язычество же ее и не «возлежание» Одиссея в странствиях то с одной нимфою, то с другой. Разумеется, близок «дух поэзии», то «чудесное» восприятие жизни, какое есть у Гомера, — одновременно нравилась и прочность уклада: это близко было в «Одиссее» и Гоголю. Все «правильно», основательно, патриархально. Нечто, от чего может мутить, им как раз и приходилось по сердцу. Склад общественный, непререкаемость власти и власть «избранных» — все хорошо. Гоголь недаром писал в «Переписке» об «Одиссее» — полагал, что для русского общества будет она откровением и поучением. Ему представлялось, что он сам ведет это общество ввысь «Перепискою», Жуковский же «Одиссеей». Ни то, ни другое не вышло. Замечательны книги обе, влияние же их на современников было: для Жуковского нуль, для Гоголя минус. («Благодетельный» помещик Гоголя не так далек, в мечте его, от «домовитого» Одиссея, ни ни тот, ни другой к России не привились. Никого в России «Одиссея» не воспитала. «Переписка» же только разожгла злобные чувства. Ее оценка пришла позже.)
«Одиссея» писалась семь лет, с 42‑го по. 49‑й. Последние двенадцать песен создались необычайно быстро, в несколько зимних месяцев.
«Одиссея» была для Жуковского формою жизни. В ней, ею он жил, даже во времена перерывов. Придавал ей большое значение, считал, что это главное остающееся от него (в чем все — таки прав не был, хотя в некотором смысле и является «Одиссея» его capolavoro [28]. Но если бы лишь она одна от него осталась, знали ли бы мы облик Жуковского, как теперь знаем по лирическим и интимным стихам?).
Встречена книга была равнодушно. Мало ее заметили. «Переписка» сердила, «Одиссеи» как будто и не было. Даже знакомые, даже друзья, кому он разослал экземпляры с надписями, не откликнулись. Просто молчание. «Почти ни один не сказал мне даже, что получил свой экземпляр. Если так приятели и литераторы, что же просто читатели?»
Но под ним почва прочная. «Я и не для участия от кого бы то ни было (сколь оно ни приятно) работаю над «Одиссеей», я пожил со святою поэзией сердцем, мыслию и словом — этого весьма довольно». «Для чего я работал? Уже, конечно, не для славы. Нет, для прелести самого труда» (Зейдлицу, позже). «В 68 лет не до славы; но весело думать, что после меня останется на Руси твердый памятник, который между внуками сохранит обо мне доброе воспоминание».
* * *
Еще ранее, прежде чем кончил он «Одиссею», на родине завершалась часть судеб близких ему лиц. Дерпт для него теперь кончился вовсе. Даже Мойер вышел в отставку и жил в Бунине, Орловской губернии, доставшемся ему через покойную жену Марью Андреевну. С ним и дочь Катя, и теща Екатерина Афанасьевна. Дуня Киреевская, милый друг юности, теперь Елагина, давно уже немолодая дама, умница просвещенная — у ней салон в Москве, где бывает цвет литературы.
От первого брака дети Петр и Иван Киреевские, украшение культуры русской, национальной й