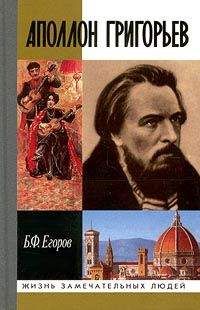«Цыганская венгерка» и предшествовавшее ей в цикле «Борьба» стихотворение «О, говори хоть ты со мной…» создавались не только в тяжелый личный период жизни Григорьева (мировоззренческий кризис, «смерть» родного «Москвитянина», а главное — безнадежная страстная любовь к Л.Я. Визард), но и в теснейшем общении с цыганами. М.И. Пыляев, со слов ветеранов цыганского хора, так описывает этот период в своей книге «Старый Петербург»: «В пятидесятых годах явился Иван Васильев, ученик Ильи Соколова; это был большой знаток своего дела, хороший музыкант и прекрасный человек, пользовавшийся дружбой многих московских литераторов, как, например, А.Н. Островского, Ап. Григорьева и других. У него за беседой последний написал свое стихотворение, положенное впоследствии на музыку Ив. Васильевым» (между прочим, существует легенда, что и Григорьев участвовал в создании мелодии). Далее Пыляев цитирует несколько искаженный и сокращенный текст «Цыганской венгерки». Конечно, полный ее текст вряд ли можно было сочинить «за беседой».
Вся сложность контрастов и зигзагов, растянутая к тому же на довольно большом, почти поэмном, пространстве стихотворения оказывалась мало пригодной для фольклорного бытования и исполнения. И недаром все последующие певцы произвольно сокращали текст Григорьева, вынося за скобки не только сюжетные повороты, но и стилевую чересполосицу, сохраняя впрочем интенсивность чувства, «цыганскую» страстность.
Но полный текст стихотворения имеет другие функции, он слишком личностен, слишком связан с «лирическим романом», со всем циклом «Борьба».
А последние четыре стихотворения цикла демонстрируют спад напряжения, развязку; после громкого, страстного крещендо «Цыганской венгерки» они, при всей силе передаваемого чувства, как-то истощенно ослаблены, как бы произносятся полушепотом. Между собою же они контрастны попарно: пятнадцатое и семнадцатое посвящены пушкинской теме «… как дай вам Бог любимой быть другим», а шестнадцатое и восемнадцатое, главным образом — стенаниям души, описанию незатухающего любовного чувства. При этом восстанавливается контрастная пропасть между героями, «она» снова возведена в ангельский чин, «он» подчеркнуто пребывает «в развращеньях бездны». Эта тема многократно повторяется в последних стихотворениях, происходит опять как бы завораживание, зашаманивание и самого себя (поэта), и читателя, то есть уверение в невозможности соединения при условии такой непреодолимой пропасти; это не утешение, а скорее объяснение или даже оправдание.
В целом «Борьба» дает очень динамичное, почти поэмное или даже новеллистическое развитие действия. И заключительное стихотворение не только повторяет, не только синтезирует многие и многие темы предшествующих перипетий, но содержит интересное завершение: казалось бы, в безнадежной, мрачной ситуации цикл должен «закруглиться», безвыходно замкнуться, но поэт, подытоживая прошлое, с теплой надеждой мечтает о душевной связи с героиней, ему так хочется верить,
…что светишь ты из-за туманной дали
Звездой таинственною мне!
Цикл демонстрирует не только борьбу, но и тесное сплетение традиционной троицы — веры, надежды, любви. Герой мучительно тянется к идеалу, жизнь бросает его с высот на землю, но он снова верит, надеется и любит… В этом отношении цикл «Борьба» может быть рассмотрен как большой метафорический аналог к жизни самого поэта, находившегося в постоянном борении между идеалом и грешными земными чувствами и делами.
И ни один другой цикл Григорьева не содержит такого заряда «исторической» динамики, то есть «векторного» потока времени от прошлого через настоящее в будущее. Даже очень близкий к «Борьбе» цикл «Титании», также навеянный любовью поэта к Л.Я. Визард, не содержит никакого «романа», никакой последовательности событий: он построен скорее именно на «круговом», «зашаманивающем» принципе: сплошные повторы тем, сплошные анафоры (единоначатия), четкое ритмическое чередование (идут подряд семь сонетных четырнадцатисложников).
Хронологическая развертка «Борьбы» отражает несомненное влияние на автора новейшей реалистической повести и романа. И конечно, влияние конфликтной эпохи, которую какой-то остряк назвал «Борьба с борьбой борьбуется». Но Григорьев далек от социальных столкновений, у него борьба личностная, у него «он», «я» борется с «нею», а еще больше и чаще — сам с собою, со своими страстями. Однако общественно-политическая напряженность предреформенной эпохи могла косвенно интенсифицировать внимание поэта (в данном случае еще и человека) к внутренним конфликтам.
Душевная рана у отвергнутого Григорьева не заживала всю жизнь. В первые годы после окончательного краха надежд она болела нестерпимо мучительно, это заметно и по частным письмам, особенно — к Е.С. Протопоповой, и по художественному творчеству. После циклов «Борьба» и «Титании» поэт пишет, уже находясь в Италии, большую поэму «Venezia la bella» («Прекрасная Венеция»), состоящую из 48 сонетных строф, то есть из 672 строк. В поэме описывается, как русский путешественник плывет с гондольером по Большому каналу Венеции от площади Святого Марка до моста Риальто, впитывает величественный и трагический венецианский дух, но сквозь все виды и ощущения перед ним встают воспоминания о «ней», о Л.Я. Визард, опять, как и в «Борьбе», описываются изломы и зигзаги чувств поэта, героиня рисуется то светлым серафимом, то полною каких-то темных и таинственных душевных движений; воспоминания ведут персонажей то в заветный дом «ее» родителей, то в цыганский табор, то в переживания бетховенского квартета.
Вспыхивала память о далекой и недоступной любимой и в других произведениях поэта, в частности в последней его поэме «Вверх по Волге» (1862).
А за два месяца до кончины, 26 июля 1864 года Григорьев пишет сонет, который он приложил как постскриптум к своему переводу трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта»:
И все же ты, далекий призрак мой,
…………………………………………
Когда я труд заветный кончил свой,
Ты молнией сверкнул в глухой пустыне
Больной души …
…………………………………………..
И все, на что насильно был я глух,
По ржавым струнам сердца пробежало
И унеслось — «куда мой падший дух
Не досягнет» — в обитель идеала.
В последних двух строках — цитата из пушкинского «Пира во время чумы» (1830).