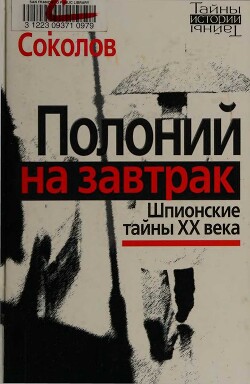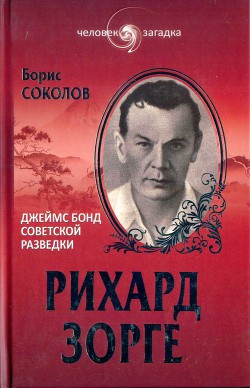вождь боялся больше всего. Ведь тогда его детище – Октябрьская революция, а вслед за ней и революция мировая оказались бы под угрозой гибели (так думал Ильич, но не Сталин).
Других членов ЦК Ленин охарактеризовал ещё менее уважительно. Зиновьеву и Каменеву напомнил их «октябрьский эпизод», когда они не только проголосовали против вооружённого восстания, но и сообщили об этом секретном решении в газетах. Чем-чем, а храбростью Григорий Евсеевич и Лев Борисович никогда не отличались, и Ленин прямо намекал на это.
Теоретические воззрения Бухарина, по ленинскому определению, схоластичны и «очень с большим сомнением могут быть отнесены к вполне марксистским» (таковыми Владимир Ильич скромно считал только воззрения Маркса, Энгельса и свои собственные).
Досталось и Юрию Леонидовичу Пятакову – он был человек «несомненно выдающейся воли и выдающихся способностей, но слишком увлекающийся администраторством и администраторской стороной дела, чтобы на него можно было положиться в серьёзном политическом вопросе». В переводе на общечеловеческий язык это означало, что Пятаков, в ту пору – заместитель председателя ВСНХ Дзержинского (от “железного Феликса” в Высшем совете народного хозяйства толку было мало) прежде всего озабочен вопросами управления народным хозяйством и профессиональными качествами своих сотрудников, а не их политической благонадёжностью. Это, по мнению Ленина, делало не вполне благонадёжным самого Юрия Леонидовича.
Словом, всем сёстрам по серьгам. Но в заключительной части письма, продиктованной 4 января 1923 года, больше всего досталось Кобе: «Сталин слишком груб, и этот недостаток, вполне терпимый в среде и в общениях между нами, коммунистами, становится нетерпимым в должности генсека. Поэтому я предлагаю товарищам обдумать способ перемещения Сталина с этого места и назначить на это место другого человека, который во всех других отношениях отличается от тов. Сталина только одним перевесом, именно, более терпим, более лоялен, более вежлив и более внимателен к товарищам, меньше капризности и т. д. Это обстоятельство может показаться ничтожной мелочью. Но я думаю, что с точки зрения предохранения от раскола и с точки зрения написанного мною выше о взаимоотношении Сталина и Троцкого, это не мелочь, или это такая мелочь, которая может получить решающее значение». [252]
Положим, чем-чем, а бранью Ленина удивить было трудно. Он сам и устно, и письменно не раз ругал как своих оппонентов, так и соратников по партии последними словами, так что порой в собрании сочинений приходилось ставить многоточия. Очень точно охарактеризовал заключительный период деятельности Ленина на посту главы Совнаркома М.С. Восленский в книге «Номенклатура»: «Когда читаешь страницу за страницей последние тома Полного собрания сочинений, встаёт образ постоянно раздражённого, капризного и придирчивого начальника, который по всякому поводу устраивает разносы своим подчинённым. В забытое прошлое канули товарищеские отношения, которые объединяли его с этими людьми в недавней эмиграции. Подчинённые заискивают и благоговеют. И чем больше они стушёвываются и воскуривают фимиам, тем твёрже убеждается начальник, что он непогрешим, но окружен ленивыми недоумками, которых надо стегать и во всё тыкать носом. Вождь недавней революции уже с нескрываемым презрением отзывается о революционерах…» [253]
Поэтому в письме к съезду ленинская логика не вполне понятна. Раз грубость в общении между коммунистами – вещь вполне терпимая, то что за беда, если Сталин лишний раз обругает кого-нибудь из партийцев (ругать империалистов, меньшевиков да и просто провинившихся в чём-либо беспартийных сам бог велел). Можно подумать, Ленин правда считал недопустимым, что Сталин, занимающий ключевой пост в партии, будет груб с партийными товарищами. А те от него всецело зависят и не смогут ответить генсеку столь же непочтительно. Однако разве сам Ильич не позволял себе в эмиграции ругать соратников-большевиков, зависимых от него в денежном или ином отношении? Ведь ни один из обруганных никогда не ответил вождю в адекватных непарламентских выражениях. Создаётся впечатление, что грубость Сталина для Ильича была только предлогом, чтобы убрать Иосифа Виссарионовича с поста генерального секретаря. Занемогший председатель Совнаркома всерьёз опасался, что сосредоточенную в своих руках огромную власть вершителя судеб всех членов партии Сталин может не отдать никому, в том числе и ему, Ленину. Он ещё надеялся на выздоровление.
Интересно, что оба выделенных в письме большевистских лидера вместе с самим Лениным были наиболее беспощадными из всех членов Политбюро. Когда высшему партийному органу приходилось непосредственно решать вопрос о казни отдельных арестованных или взятых в заложники, Каменев, Калинин или Рыков порой проявляли мягкость. Но тройка Ленин – Сталин – Троцкий почти всегда отправляла несчастных на смерть. Владимир Ильич чувствовал, что только один из этих двух, Сталин или Троцкий, может стать его преемником, но думал, что до этого ещё далеко.
Ленин настаивал, чтобы все пять экземпляров письма хранились в запечатанном сургучом конверте, который мог вскрывать лишь он сам, а после его смерти – только Крупская. Однако Володичева не сделала на конверте соответствующей пометки. Секретарь Совнаркома Л.А. Фотиева (они с Володичевой посменно дежурили у постели больного вождя) прочитала письмо и ознакомила с ним Сталина, Зиновьева и Каменева. К тому времени они составили в Политбюро триумвират против Троцкого, и смещение Сталина с поста генсека не устраивало всех троих. На первом съезде без Ленина, XIII-м, обсуждение ленинского письма было организовано не на пленарном заседании, а по делегациям, руководители которых уже были ориентированы генеральным секретарём в нужном духе. В результате Сталин остался на своём посту, ограничившись обещанием исправить отмеченные Лениным недостатки. Но это происходило уже после смерти Ленина. Пока же болезнь постепенно прогрессировала. В феврале 1923 года, как вспоминал профессор В.В. Крамер, опять «отмечались сперва незначительные, а потом и более глубокие, но всегда только мимолётные нарушения в речи… Владимиру Ильичу было трудно вспомнить то слово, которое ему было нужно… Продиктованное им секретарше он не был в состоянии прочесть… Он начинал говорить нечто такое, что нельзя было совершенно понять». [254]
Надежда Константиновна постоянно находилась рядом с мужем. 5 марта Ильич диктовал письмо Троцкому с просьбой: «взять на себя защиту грузинского дела на ЦК партии. Дело это сейчас находится под “преследованием” Сталина и Дзержинского, и я не могу положиться на их беспристрастие. Даже совсем напротив. Если бы Вы согласились взять на себя его защиту, то я бы мог быть спокойным». [255]
Речь шла о стремлении руководства грузинской компартии во главе с Буду Мдивани добиться большей автономии своей страны в составе искусственно созданной Закавказской федерации и собственной независимости от Закавказского крайкома РКП, который возглавлял Орджоникидзе. Приехавшая для разбора конфликта комиссия ЦК во главе с Дзержинским приняла сторону крайкома, а в пылу дискуссии Серго съездил по морде одному