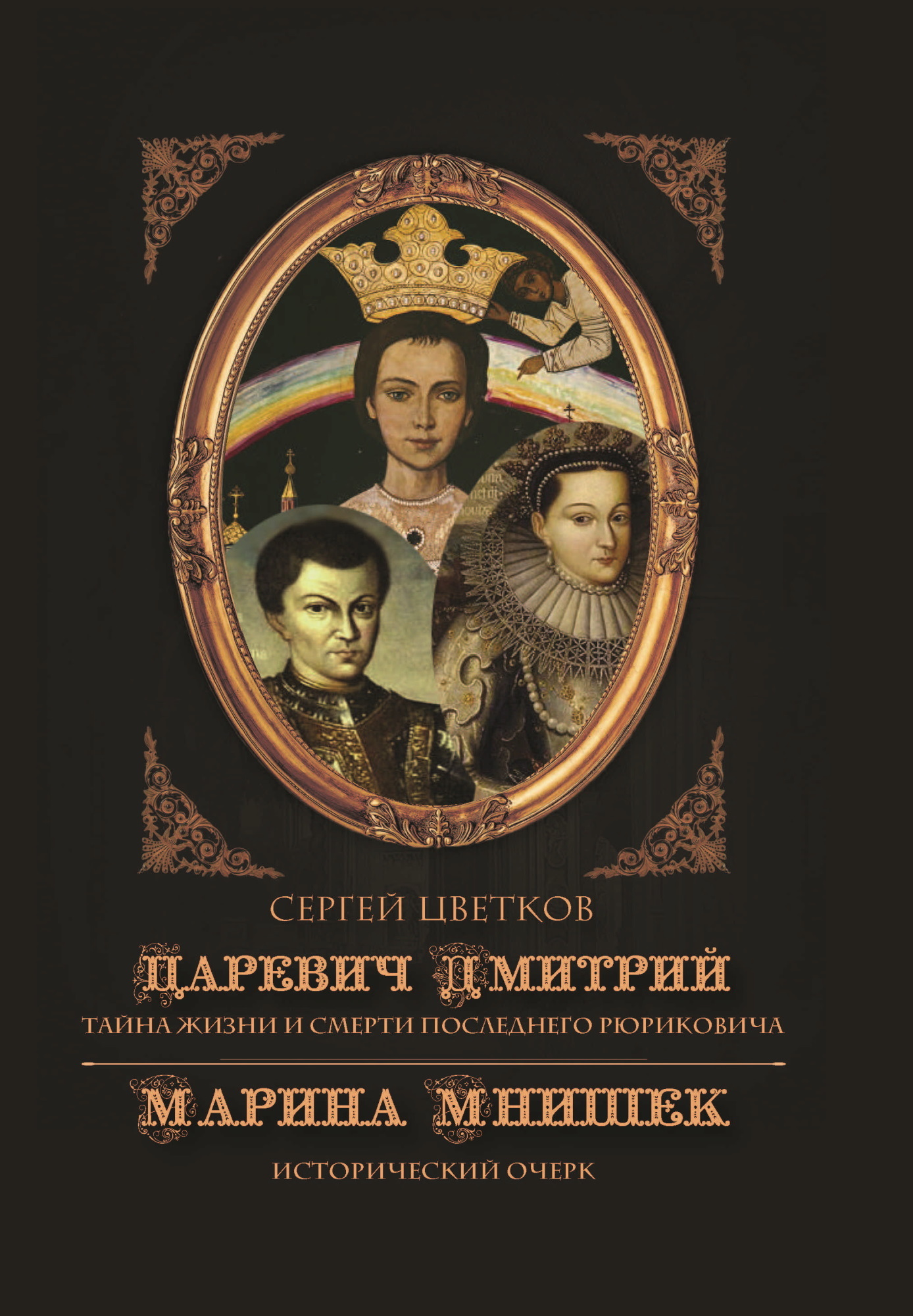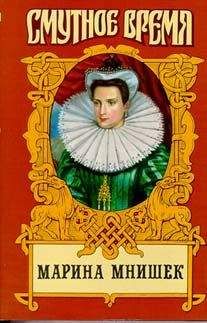Ксенией должен был привязать скитальца к новой родине. Но Густав не согласился ни принять православие, чтобы жениться на дочери царя, ни расстаться со своей любовницей, которую привез с собой в Россию; затосковав по свободе, он во всеуслышание грозился поджечь Москву, если Борис не отпустит его из России. Рассерженный Годунов велел арестовать его, но затем смилостивился и выслал его в Углич, передав в его распоряжение доходы с этого города. (Густав пережил Бориса и пользовался большим расположением к себе со стороны Дмитрия.)
Вторым женихом Ксении был датский принц Иоганн, чей отец, король Христиан, соблазнился русско-датским союзом против Швеции. Иоганн был умный и воспитанный юноша; он полюбился Ксении. Но принца погубило русское гостеприимство. В Москве царского жениха ежедневно честили обедами, такими обильными, что после одного из них датский желудок принца не выдержал; Иоганн умер от переедания. Ксения была безутешна, и слезы на ее глазах, пишет летописец, делали ее красоту еще более неотразимой.
Смерть Иоганна случилась в 1602 году. Появление Дмитрия в Польше отвлекло внимание Бориса от устройства судьбы дочери, тем более что кончина датского принца как-то остудила любовный пыл других женихов. В 1605 году Ксения все еще была незамужней девкой. Как я уже отмечал, ходили слухи, что Дмитрий польстился на нее. По другим известиям, ее сразу после убийства матери и брата постригли в один из Владимирских монастырей под именем Ольги. Пушкин отвергал первое предположение. «Это ужасное обвинение не доказано, – писал он, – и я лично считаю своей священной обязанностью ему не верить». Полагаю, что это также долг всякого историка, не желающего прослыть за сплетника.
Бояре великодушно прощали царю и свободу торговли, и непоседливость, и адскую машину, и женщин, но не могли смириться с двумя вещами: любовью Дмитрия к иноземным обычаям и отсутствием в царе наружного, показного благочестия. Правда, предпочтение иностранному перед своим москвичам было уже не в диковинку – за время царствования Грозного и Годунова они постепенно свыклись с мыслью о том, что у западных еретиков есть чему поучиться. Зато неосторожные высказывания царя о дурном состоянии церковных дел вызывали у них шок. Богословское учение о Москве – третьем Риме, нанесшее немалый ущерб русской мысли и русской нравственности, привило московским людям совершенно дикарское чувство обособленности и исключительности; любое, даже самое благожелательное указание на недостатки церковной жизни и учреждений казалось им кощунственным посягательством на веру. Между тем Дмитрий, не стесняясь, говорил духовным и светским такие вещи:
– У вас в церкви только обряды, а смысл их от вас сокрыт; только в том видите благочестие, чтобы поститься, чествовать иконы и поклоняться мощам, а никакого понятия о существе веры не имеете, догматов не знаете. Ваши попы и архиереи – невежды, народ не учат. Вы лицемерно славитесь своим благочестием и считаете себя самым праведным народом в мире, называя себя новым Израилем, а живете не по-христиански, недостойны высокого о себе мнения: вы развратны, злобны, мало любите ближнего, мало расположены делать добро.
Он доказывал им, что христиане не должны презирать единоверцев других обрядов – католического и протестантского:
– Что ж такое латинская и лютеранская вера? – Такая ж христианская, как и греческая: и они во Христа веруют.
Когда епископы говорили ему о семи вселенских соборах и их постановлениях, он замечал:
– Если были семь соборов, то почему же не может быть и восьмого, и десятого, и более? Пусть всякий верит по своей совести. Я хочу, чтобы в моем государстве иноверцы отправляли богослужение по своему обряду.
Бояре и иерархи протестовали против его намерения построить в Москве костел для католиков. Дмитрий возражал им:
– Они христиане и вполне заслуживают этого внимания. Почему же протестантам дозволено было прежде построить свою церковь? И для немцев-телохранителей я позволю пастору говорить проповеди в Кремле, чтоб не ходить им далеко в Немецкую слободу.
Несмотря на недовольство, он позволил капелланам отправлять в Кремле богослужение по римско-католическому обряду; правда, для этого они должны были облачиться в православные священнические одежды и отрастить бороды. Иезуиты подчинились этим требованиям. О. Лавицкий даже вошел во вкус, отважно принялся за изучение русского языка и, мечтая о будущей широкой миссионерской деятельности, часто с сожалением восклицал:
– Отчего я не москвитянин!
Русские тяжело переживали такое отношение царя к еретикам. Веротерпимость принимали за вероотступничество. Может быть, еще точнее будет сказать, что Дмитрий был религиозно равнодушным человеком, смотревшим на вопросы веры с точки зрения политики и не способным понять их самостоятельное значение. Однако он хорошо понимал, что имеет дело с людьми, для которых религия являлась духовной основой их жизни. Вот почему сразу же после своего воцарения он, не порывая видимым образом с иезуитами, стал оказывать покровительство православной церкви. Дмитрий принадлежал к числу тех политиков, которые, подобно Наполеону, хотели быть католиками – во Франции, мусульманами – в Египте и православными – в России. Вообще следует признать, что это плохо им удавалось и обыкновенно дурно для них заканчивалось.
Впрочем то, что можно было простить царю, было непростительно для патриарха. Игнатий представлял собой наиболее гнусный тип духовного пастыря – лицемерного фанатика. Чтобы заставить паству забыть о своем нерусском происхождении, он старался выглядеть ультраправославным. После своего избрания он обратился к церкви и народу с грамотой, в которой ставил проклятых латинян в один ряд с магометанами и желал обоим всяких бед. Неусыпную бдительность Игнатия на страже чистоты веры отлично иллюстрирует следующий случай. В сентябре 1605 года в Москву приехал князь Адам Вишневецкий, чтобы поздравить Дмитрия с восшествием на престол. В его свите находилось много православных священников, которые смело вошли вместе с князем в церковь. Однако их остановили у дверей и указали, что вся их повадка – латинская: на головах у них нет скуфей и сопровождают их польские певчие. Несколько обескураженные священники раздобыли головные уборы и все-таки вошли в храм. Но когда они запели молитвы, поднялся общий ропот: пение не православное! Да и камилавки у них оказались без обязательной каймы – явное латинство!
Игнатий предал отступников анафеме; кое-кто даже угодил в тюрьму. Только заступничество Адама Вишневецкого спасло еретиков, простодушно считавших себя в Литве поборниками православия. Многим из них спустя несколько лет довелось увидеть Игнатия в Польше, примкнувшим к унии и получающим пенсию от Сигизмунда; обращение нового Савла было настолько полным, что некоторые униаты признавали его святым. В людях такого сорта подобные метаморфозы совсем не удивительны.
Дмитрий отлично понимал, что он царствует в православном государстве. Конечно, он не одобрял религиозно-террористических выходок, вроде вышеописанной, однако и не протестовал против них. Он ни в чем не посягнул на права иерархов. На торжественных приемах царь всегда