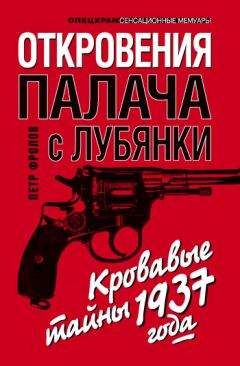Я все думал: неужели это Ноэми? Передо мной сидела старая женщина, седая, с потухшими глазами. Неужели это та красавица студентка!
Я спросил, как ей живется в лагере, чем она занимается. Сначала, — ответила она, — было трудно, теперь легче. Она работает на кухне и кое-как устраивается. Но ей очень хочется выйти из лагеря, и вот появилась надежда. Ведь она польская гражданка. Все говорят, что граждан Польши амнистируют.
Позднее старожилы лагеря рассказали мне, как она «устраивалась»…
На собрании поляков представитель Печорлага сообщил, что действительно подписано соглашение между правительствами Советского Союза и Польши, и советское правительство решило амнистировать всех польских граждан. Он сам читал текст соглашения в «Правде». Однако администрация Печорлага не получила пока никаких указаний об освобождении польских граждан. Пока указание не получено, должны трудиться плечом к плечу с остальными заключенными. Он созвал собрание, чтобы объяснить нам ситуацию и избежать недоразумений. Он уверен, что теперь мы будем трудиться с еще большим энтузиазмом, так как Польша и Советский Союз ведут совместную борьбу против общего врага, против немецких людоедов. Наша работа, — закончил он свое выступление, — тоже вклад в будущую победу.
Потом с патриотической речью выступил начальник нашего пункта, а за ним, с еще более патриотической речью, — наш воспитатель. Он призвал нас служить примером остальным заключенным во время соцсоревнования между двумя соседними лагерями.
— Вопросы имеются? — спросил в заключение начальник лагеря.
Моя соседка встала и спросила, распространяется ли амнистия на всех польских граждан или только на тех, кто арестован после 1939 года.
— Вы не полька, — резко ответил ей начальник, — и вас все это не касается.
Бедная женщина промолчала. Вопросов не было. Информационное собрание закончилось. Мы выслушали наших Демосфенов и отправились работать (невзирая на амнистию) как илоты.
Через несколько недель после польского собрания по лагерю вихрем пронесся новый слух: этап! Часть заключенных будет переведена в другой лагерь. Слух вызвал волнение и страх заключенных. Урки матерились. «Нас посылают на смерть», — говорили они. Теперь они не оставляли в покое охранника. «Ты почему на фронт не идешь? — спрашивали они его. — Здесь ты герой, а? Мучить людей ты умеешь, а на фронт пусть другие идут, а?» Охранник отвечал им с непонятной сдержанностью: «Заткнитесь, заткнитесь», — но урки продолжали свое.
Никогда я не видел урок такими нервными, взбудораженными. Даже Краснобородка потерял душевное равновесие. Слово «этап» навело страх на весь лагерь.
Медицинская проверка перед массовой отправкой была короткой и дала удивительно «хорошие» результаты. Почти все были признаны годными для этапа. Гарин был признан годным, Сортир — тоже, даже «живой труп» оказался достаточно здоров.
Нас, польских граждан, тоже повели на медосмотр. Один из нас спросил начальника лагеря, почему мы включены в список? Начальник ответил, что это зависит не от него. Ему приказано готовить этап, и нет никаких указаний относительно поляков. Если мы хотим жаловаться, наша делегация может поговорить с уполномоченным, только что прибывшим из Москвы. Он, начальник, будет очень рад, если мы выйдем на свободу.
Заключенные-поляки требовали, чтобы я с одним офицером пошел на встречу с уполномоченным. Я отказался. Одно дело защищать свою честь и честь своей нации, и совсем другое — мозолить глаза чекисту. Но товарищи настаивали, говоря, что это вопрос жизни и смерти для всех нас. Другие выйдут на свободу, а мы сгнием в новом лагере. Я уступил давлению и вместе с бывшим офицером пошел к уполномоченному.
Уполномоченный принимал в бараке на холме. Рядом с ним сидела женщина средних лет.
— В чем дело? — спросил он после того, как начальник лагеря представил нас.
Я сказал, что мы, граждане Польши, просим не отправлять нас этапом. Мы амнистированы, скоро освободимся и будем воевать. Какой смысл посылать нас на север, если скоро мы должны будем ехать на юг?
— А кто вам сказал, что вы едете на север? — спросил уполномоченный.
— Не знаю, так говорят в лагере.
Женщина начала говорить о социалистическом строительстве, о пользе, которую можно принести советской родине в любом месте. Она тоже говорила, как Демосфен. Уполномоченный неожиданно прервал ее:
— Я уполномочен партией, не говори так много.
Обратившись к нам, он объяснил: этап необходим. Здесь, в лагере, нет работы для всех заключенных. В то же время в нас нуждаются в другом месте. Ему известно о соглашении между правительствами Советского Союза и Польши. Да, советское правительство решило нас амнистировать. Но он не получил пока конкретных указаний («понимаете, конкретных указаний?») об освобождении польских граждан. Поэтому он обязан относиться к нам, как ко всем заключенным. Мы нужны на строительстве в другом месте. Но не надо беспокоиться. Если придет распоряжение, нас снимут даже с корабля и отправят в нужное место.
Он спросил, как меня зовут, и на этом беседа закончилась. Было ясно: надо готовиться к этапу.
Но мой друг Кароль не отчаивался. Он прибыл в лагерь из больницы через несколько недель после меня и вскоре стал бригадиром. Некоторое время он возглавлял мою бригаду, поддерживал «профессиональные связи» с прорабом, нарядчиком и другими должностными лицами. Благодаря этим связям он не был включен в этапный список и пытался вызволить и меня. Все напрасно. Не помогли даже сорочки (у меня еще было несколько). Начальник лагеря сказал знакомым Кароля, просившим за меня: «Он обязательно должен быть в списке».
Кароль думал, что я «угробил себя», отправившись на встречу с уполномоченным. Возможно, он был прав. Но какой смысл сожалеть об этом? Ведь сделанного не воротишь. Я утешал Кароля, как только мог. Радовался, что ему удалось остаться, и переживал предстоящую разлуку.
Но кто может предсказать судьбу человека? Как знать, что хорошо и что плохо?
Кароль не ушел с этапом, остался в лагере. Он остался в лагере навеки. Мы не знаем, где его могила. Но если бы знакомые не помогли ему, если бы он спустился вместе с нами в трюм этапного парохода… Кто знает?.. Передо мной печальные глаза веселого, доброго Котьки, провожающие меня в трюм. Он, верно, очень за меня боялся, хотя я и пытался его утешить. Кто мог знать, что добро — это зло?
При составлении рабочих бригад нас пересчитывали бесчисленное множество раз. Когда же нас вывели из лагеря, выяснилось, что пароход не готов принять рабсилу. Три дня и три ночи мы пролежали на мерзлой земле, и весь котел составлял уменьшенную порцию хлеба (мы не работали!) с холодной водой. У нас не было «прописки»: новый пункт не мог нас принять, старый нас уже не признавал. Зима была на пороге. Белые ночи кончились. Холодные, сырые ночные туманы вызывали неуемную дрожь; великолепное северное сияние каждую ночь освещало самый ужасный ад на земле.