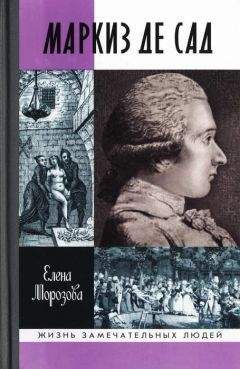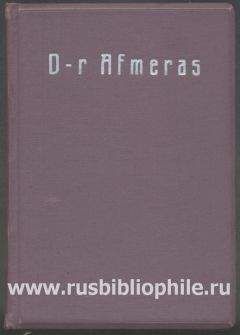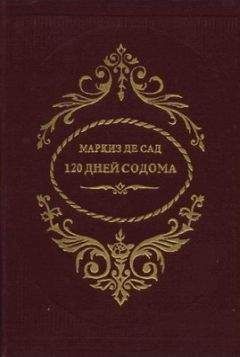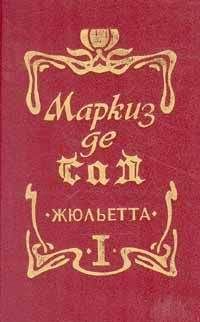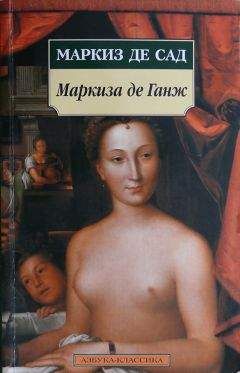Если с наиболее одиозными их «них», а именно с судьями из Экса и Марселя, де Сад расквитался в рассказе «Обманутый председатель», выведя в нем образ мерзкого и сластолюбивого взяточника-судьи, то проклятия «адскому чудовищу» мадам де Монтрей проходят красной нитью через все письма маркиза, написанные им в первые тринадцать лет заключения, причем слово «красный» иногда следует понимать буквально: в январе 1778 года он направил Председательше письмо, написанное кровью, — ведь кровь не может лгать! В этом послании он умолял тещу сообщить, как долго продлится его заключение: «Сударыня, заклинаю вас всем, что вам дорого, избавьте меня от ужаса, в коем я пребываю! <…> дозвольте слезам моим, кровавым этим буквам, коими начертано сие письмо, смягчить ваше сердце. <…> Я останусь навеки вашим должником, и благодарность моя не будет иметь границ». Но в это время мадам де Монтрей уже не была расположена верить де Саду — слишком часто он обманывал ее ожидания и никогда не благодарил за помощь, которую ему оказывали. Она поняла: любые ее усилия, направленные на смягчение участи зятя, могли бы осчастливить любого, но только не Донасьена Альфонса Франсуа. Этот человек мог быть счастлив только в соответствии со своим «образом мыслей», а как его «образ мыслей» соотносился с окружающими, его нисколько не волновало.
Для де Сада мадам де Монтрей была особенно ненавистна тем, что в борьбе с ним использовала наиболее отвратительное для него оружие, а именно добродетель, возведенную в принцип. И сколько бы ни обвинял он тещу в присвоении его денег, в воспитании ненависти к нему у его детей и в прочих смертных грехах, он был не прав, чувствовал это, а потому злился еще больше. Получив «письмо с печатью», чтобы изолировать Донасьена Альфонса Франсуа от общества, Председательша была уверена, что делает это во имя семьи и внуков, для которых старалась сохранить семейное достояние.
А маркиз ради собственной свободы не желал даже сделать вид, что готов пойти на уступки. Эти гнусные «они» во главе с Председательшей хотели заставить его поступиться «образом мыслей»! «Если, как вы мне говорите, они готовы вернуть мне свободу при условии, что я буду готов заплатить за нее, расставшись со своими принципами или вкусами, мы можем распрощаться друг с другом навсегда, потому что я бы скорее пожертвовал тысячью жизней и тысячью свобод, если бы они у меня были, чем расстался с ними», — писал де Сад Рене-Пелажи. Под «принципами и вкусами» в данном случае подразумевался вполне реальный, не метафизический либертинаж, на практике сводившийся к изощренному эротизму и принуждению представительниц древнейшей профессии к противоестественным поступкам. Сословная мораль дозволяла и поколотить такую женщину, и причинить ей увечье, но далеко не все возводили эти неписаные правила в принцип, тем более что среди качеств, присущих истинному дворянину, в то время уже числилось «уважение к правосудию».
Приказ о заточении без суда и следствия, на основании которого де Сад очутился в Венсене, к правосудию отношение имел отдаленное, и де Сад это прекрасно понимал: «“Письмо с печатью” противоречит конституции государства и является признанным нарушением как закона, так и человеческой природы».
Если судьи определили поступки де Сада как «разнузданный либертинаж», сам он называл их «несчастной ошибкой» или «опрометчивым поступком» и не мог согласиться с лишением свободы из-за «непочтительного отношения к шлюхам». «Дворянина, который достойно служил своей стране и который, осмелюсь сказать, обладает достаточным числом достоинств, предлагают в качестве жертвы — и кому? — шлюхам!» — гневно восклицал он. А он имел несчастье поверить, что нет ничего менее уважаемого, чем шлюха, и «то, как ее используют, не должно иметь большего значения, чем то, как он отправляет естественные надобности». В письме к своему лакею и сотоварищу по либертенским похождениям Картерону[9], который после ареста маркиза обосновался в Париже и продолжал выполнять поручения своего господина, де Сад с возмущением писал: «Во Франции тот, кто выказывает неуважение к шлюхам, не остается безнаказанным. Можно дурно отзываться о правительстве, короле, религии: все это не имеет значения. Но шлюха, господин Кирос! Будьте осторожны и никогда не обижайте шлюху». «Если бы я перевоплотился в теле какого-нибудь муниципального или государственного чиновника, я бы обнародовал закон, по которому мужчины могли бы делать со шлюхами все, что им заблагорассудится», — написал Донасьен Альфонс Франсуа, старательно подчеркнув главную мысль.
В так называемом «большом письме», адресованном мадам де Сад, маркиз подробно анализировал случаи либертинажа, которые привели его в камеру Венсенского замка, полагая, что по причине постоянной цензуры его писем доводы в его оправдание станут известны «кому надо» и, возможно, даже сумеют склонить «кого надо» на его сторону. Письмо напоминает монопьесу, монолог для одного актера с авторскими ремарками. А так как сочинительство было основным занятием де Сада в заключении, письма не могли не стать частью его литературного творчества.
Итак:
«Мои приключения можно свести к трем эпизодам.
Первый из них я пропущу: он полностью лежит на совести Председательши де Монтрей, и если кого-то и следовало за него наказывать, то именно ее.
Вторым приключением был Марсельский инцидент: я полагаю, что обсуждать его также не имеет смысла».
Дополним рассуждения: в заявленных четырех эпизодах «Ста двадцати дней Содома» также развернут только один эпизод.
«Перейдем к третьему эпизоду. Имея небольшой недостаток (необходимо признать), который состоит в том, что я, возможно, больше, чем следовало бы, люблю женщин, я обратился к известной лионской сводне и сказал ей: я хочу взять к себе в дом трех-четырех служанок, мне нужно, чтобы они были молодыми и хорошенькими; найдите мне таких. Сводню звали Нанон, и эта Нанон была сводней известной, что я докажу, когда наступит срок. Она обещает мне найти таких девушек и находит их. Я отвожу их домой; я их использую. Полгода спустя приезжают родители и просят вернуть девиц, уверяя меня, что это их дочери, Я передаю их родителям; и вдруг мне предъявляют обвинение в похищении и изнасиловании! Но это вопиющая несправедливость!»
Доказывая правоту своего героя, автор постоянно переплавляет вымысел и реальность, изложение фактов чередуется с эмоциональными всплесками. Внезапно монолог прерывается авторской ремаркой, иначе говоря, констатацией в третьем лице:
«Каков же итог всего этого? А итог заключается в том, что господин де Сад, которого они, вне сомнения, обвиняют во всевозможных ужасах, раз уж так долго держат его в тюрьме, и который имеет самые веские основания бояться пребывания в тюрьме как по тем причинам, которые он скоро раскроет, так и потому, что он, уже в двух случаях испытав на себе, на что способна злобная молва, чтобы ему навредить, нисколько не виновен в опытах, экспериментах или убийствах: ни в самой последней истории, ни во всех остальных. Господин де Сад делал то, что делают все на свете, и имел отношения с теми женщинами, которые или уже были распутными, или были предоставлены ему сводней, а следовательно, обвинение в совращении просто неприемлемо, но господина де Сада наказывают и заставляют страдать, словно он повинен в самых гнусных преступлениях».