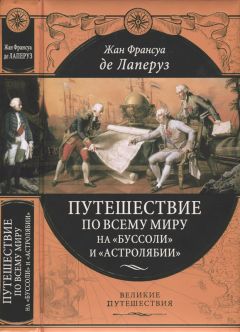Работы через край, все неплохо, мы читаем вслух сусуманскую газету, а там встречаем такое: «Бригадиру скоропроходческой бригады Туманову. Подразделение, где начальником Боровик. Поздравляем шахтеров бригады с большой производственной победой – выполнением суточного задания по проходке стволов на 405%. Выражаем уверенность, что горняки, не останавливаясь на достигнутом… Начальник управления В. Племянников, начальник политотдела М. Свизев».
На прикрепленной к бригаде машине с шофером Юркой, по кличке Москва, при первой же возможности я еду в Сусуман. Через неделю, приехав к Римме снова, я вижу, что она абсолютно спокойна. Даже равнодушна. И я не могу понять ни ее внезапной замкнутости, ни бледности ее лица. Наконец, мы остаемся одни.
– Что с вами? – спрашиваю.
– Вас отпустили в Сусуман?
– Да, – улыбаюсь я, – сегодня у нас в Сусумане комсомольское собрание.
– Не надо! – говорит Римма. Оказывается, на второй или на третий день Римма уже все обо мне знала. Ей, как
комсомольскому секретарю, начальство рассказало. А затем ее вызвал районный прокурор Федоренин: «Отдаете ли вы себе отчет в том, чем могут для вас закончиться встречи с бандитом? Мы опасаемся за вас и обязаны предупредить».
– Мы что, больше не увидимся? – упавшим голосом спрашиваю я. Римма отвечает не сразу.
– Ну почему же…
Я продолжаю приезжать в Сусуман, и нам обоим разлука дается все труднее. Со мной что-то происходит. В те дни на Челбанье меня особенно тянет к дневнику. Я и письма-то избегал писать, а тут пишу почти каждый день. Пишу что приходит в голову. Теперь, перечитывая и улыбаясь своим тогдашним литературным притязаниям, не могу вспомнить, сам ли некоторые строки сочинял или откуда выписал, или все смешалось.
«…Глаза у нее слегка влажные, отчего кажется, что взгляд их – выражение натуры глубоко эмоциональной. В минуты, когда она бывала увлечена, они обнаруживали способность принимать множество поверхностных выражений и тогда соответственно им движения ее становились и быстрыми, и резкими, и подчас привлекательно-нервозными. Глаза ее тихо смеются, именно тихо, потому что эта женщина изысканного воспитания – иногда грустит не безжизненно-евангельской, а земной грустью умной и благородной души».
«В погоне за ложным счастьем мы топчем друг друга и, готовые надругаться над всем самым дорогим, самым сокровенным, чем еще наградила нас природа, остаемся во власти искаженной, обезображенной морали. Рабы в душе своей, мы напрягаем последние силы, стараясь олицетворить собой важность в глазах тех, кого мы случайно обогнали, и мало кто из нас умеет помнить о человеческих несчастьях в минуты успеха, равно как и сохранять достоинство в отчаянии. Мы живем в мире холодном, наполненном ненавистью, завистью и страхом. Мы совершенно одиноки в этой жизни, может быть для контраста или для горькой иронии. Провидение иногда забрасывает крупицы нежного
чувства в сердца людей, с которыми нам приходится встречаться, и лишь редкие из нас умеют заметить и оценить этот подарок судьбы…»
«Вычеркнут еще один день жизни, прошел, как прошли уже многие, дни на Челбанье. По-прежнему нарезка стволов и штреков, самая тяжелая работа на шахтах, бригада остается ведущей в управлении. Уже полтора года такого труда, интересно, сколько же еще будут напряжены нервы. Я почему-то чувствую, что страшно устал, но ничего не сделаешь, такой труд – это единственный вариант освободиться. Эта мысль преследует меня днем и ночью, никогда я не думал так много о свободе, как в последнее время. В бараке все спят, только пес Махно ходит и какими-то безразличными глазами смотрит то на печь, то на кровать, то на дверь, за которой страшный холод».
Ранней весной 1956 года мою бригаду перебросили на прииск «Большевик». На участке «Октябрьский» надо было срочно решить вопрос о нарезке и отработке трех шахт с очень высоким содержанием золота. От них зависел план прииска. В конторе присутствовали начальник прииска Шевцов и какое-то крупное руководство из Магадана. Поскольку требовалось обсудить несколько спорных вопросов, касающихся оплаты, и наши точки зрения расходились, Шевцов предложил выслушать мнение главного бухгалтера. На Колыме всегда было особое отношение к людям нескольких профессий: нормировщикам, маркшейдерам, бухгалтерам. И тогда, находясь в кабинете, я попросил дать мне возможность самому представ вить бухгалтеру оба варианта, чтобы он не знал заранее, который и них мой, а который – начальства.
– Пригласите Григоряна! – сказал Шевцов.
Я представлял себе, что сейчас войдет человек, или высохший от злости, или, наоборот, растолстевший от безразличия. Входит подтянутый человек лет сорока пяти, с умными глазами, увидев которые запоминаешь на всю жизнь. Это был Ашот Александрович Григорян. Я сухо излагаю оба варианта, предчувствуя, что ему, конечно же, будет ближе общепринятый, устоявшийся, не требующий хлопот. Каково же было мое изумление, когда он, быстро схватив суть и не раздумывая, кто на какой позиции стоит, решительно отдал предпочтение моему подходу! Руководству ничего не оставалось, как согласиться с мнением главного бухгалтера. Мы еще не были знакомы, но я был счастлив, что на столь авторитетном посту у меня есть об разованный единомышленник. Я тогда еще не знал, что этот человек отсидел 10 лет в лагерях и тоже повидал очень многое.
Уже через много лет в Москве в компании старых колымчан, где были одни крупные руководители, зашел разговор о пережитом и интересных моментах жизни каждого. Ашот Александрович рассказал историю, относящуюся ко времени, когда он был бригадиром в лагере на берегу Загадки, притока Оротукана. Не выполнив в тот день план, бригада под конвоем брела обратно в зону. Это было глубокой осенью. Навстречу ехал верхом начальник прииска по прозвищу Махно. Узнав от конвоя, что сегодня плана нет, Махно подозвал бригадира и, не слезая с коня, стал бить его нагайкой по голове, а конвою приказал загнать всю бригаду в холодную воду. Конвой принялся теснить людей к воде. Самые сообразительные на ходу скидывали обувь, чтобы потом сунуть ноги во что-то сухое, но Махно велел конвою всю оставленную на берегу обувь выбросить в реку, вслед тем, кто уже вошел в воду.
Один из гостей после этого рассказа молчал весь вечер. Улучив момент, когда они с Григоряном остались наедине, спросил: «Так это был ты, Ашот?» «Я, – засмеялся Ашот, – я». Так он снова увиделся с Олынамовским, начальником прииска – тем самым, но прозвищу Махно.
Кстати, кличка Махно прилипала к очень многим колымским начальникам, отличавшимся сумасбродным характером.
Ашот Александрович стал главным бухгалтером Северо-восточного совнархоза, куда входили Колыма, Якутия, Чукотка. По размерам это была самая крупная хозяйственная структура Востока. Однажды он приехал по делам на прииск «Горный» и уже собрался было с сопровождающими отбывать на двух «Волгах» в областной центр, как по чистой случайности мы встретились. Отъезд он задержал часа на четыре, зашел ко мне домой, и мы с ним о многом переговорили. Он был в плановой системе из тех грамотных и думающих деловых людей, чья мысль прорывалась за флажки системы, казавшейся непоколебимой, и своими сомнениями, поддержкой новых форм, поисками реальной эффективности изнутри подрывала ее. Его перевели в Москву, он стал заместителем начальника экономического отдела Министерства цветной металлургии СССР. А когда в начале 90-х произошел развал Союза и на правительственную сцену вышли молодые реформаторы, увлеченные монетаристскими теориями, раздачей приватизационных ваучеров, распродажей, растаскиванием народного добра, тогда опытные и в высшей степени порядочные люди, подобные Григоряну, многое повидавшие и пережившие, оказались ненужными нуворишам. Не только на свою беду. Как скоро выяснилось, на беду всей российской экономики.