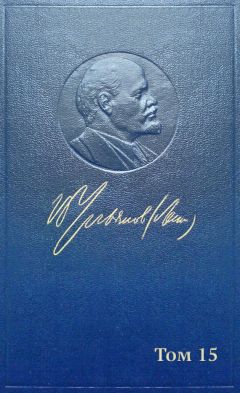В октябре 1976 года израильская газета «Наша страна» опубликовала объявление:
Объединение ОЛИМ из СССР
извещает о встрече с известным писателем,
другом еврейского народа Виктором Некрасовым
– И поразительное чувство – я вернулся в свой Киев! – не мог нарадоваться В.П.
Подходят к тебе люди, родные киевляне, часто совершенно незнакомые, и говорят с улыбкой или чуть не плача – мы из Киева!
И у тебя самого наворачиваются слёзы, ты вспоминаешь всякие киевские мелочи, а тебе напоминают о встречах и именах, болтаешь, хохочешь, обнимаешь, оставляешь адрес.
Ты у себя дома, среди своих, милейших киевлян, таких трогательных, взволнованных, неумолкающих!
Даже в магазинах вывешены объявления по-русски: «Солёные огурцы для продажи, а не для пробы!»
– Одна беда, – чуть улыбается В.П., – замучили меня там вечерними встречами с бывшими соотечественниками.
Интересно, остроумно или слегка торжественно начинается, но через часок принимаешься гадать: а угостят ли чем выпить эти прекрасные люди? Или опять твой лучший друг, киевлянин и профессор-физик Люсик Гольденфельд, начнёт под шумок всех предупреждать, чтобы водку на стол не выставлять, хватит, мол, немного вина. Но, хвала Господу, Царю Иерусалимскому, находится всегда особо сердечный, то есть пьющий, еврейский человек, который приготовил четвертинку для любимого писателя.
И тогда торжество оборачивается маленьким праздником…
Письмо от 28 сентября 1976 года: «…А вообще, Иерусалим таки да… Живём у Люсика. Конечно, слишком много женщин, а в городе слишком много евреев, но впереди всё-таки огни… Завтра едем на Голаны, оттуда через Хайфу назад. Пока что более или менее с успехом отбиваюсь от людей. Целую!»
В Израиле, на встрече в память Бабьего Яра, Некрасову подарили странную красно-жёлтую картину с символической горкой берцовых костей. Вика с содроганием принял подарок и тут же, в сторонке, отверг его, передарив кости Люсику. Но я уговорил его забрать зловещую картину и повесил её у себя дома. Никто не страшился…
Виктор Платонович вырос в семье русских интеллигентов, в окружении эмансипированных женщин – мамы и тётки, толерантных атеисток. Многие годы проживших за границей, в кругу русских эмигрантов, где веровать в Бога считалось зазорным и не созвучным эпохе.
Однажды Вика сказал, что ему очень подходит объяснение веры в Бога, которое он слышал от своей мамы. Боль от неизбежной будущей смерти наших близких заставляет нас обратиться к вере, которая смягчает эту боль. Это скорее даже страх потери. Хотя даже этот страх не заставил маму верить в Бога, улыбнулся тогда В.П.
Но вот воинственным безбожником Некрасов не был наверняка – он был просто неверующим человеком. Но всё-таки православный!
Ходил он в церковь на Пасху только в начале эмиграции, а потом бывал там лишь на похоронах, да на панихидах, да на молебнах по Государю. На Рождество я его в церкви не видел. Вполне возможно, что он бывал там один или с приезжими.
Становился в сторонке, не крестился, склонял голову, когда священник обращался в его сторону с благословением.
Но не счесть церквей и храмов во всех европейских городах, которые мы с Викой, будучи прилежными туристами, посещали или хотя бы бегло осматривали.
Особенно он благоволил к французским кафедральным соборам. Их во всей Франции восемьдесят две штуки. Многие из них начинали строить чуть ли не в тысячном году. Тогда в Европе вряд ли набралось бы с полсотни человек, знающих деление, а о геометрических чертежах, говорят, никто и понятия не имел! Но тем не менее построили эти соборы, расчудесное архитектурное чудо.
Пошли, Витька, взглянем, говорил он мне! А в глубине души ему, наверное, было просто приятно преступить порог великолепных чертогов недостижимой сложности застывшей музыки. Зайти и остолбенеть от праздничной красоты витражей, освещённых солнцем… И ощутить и прочувствовать умиротворённые воздуся, радостные всплески которых иногда заставляют дружно колебаться кисточки свечного пламени…
Вика впадал в упоительный раж при виде собора Нотр-Дам. Общёлкивал снизу, потом, пыхтя и стеная каждый раз, поднимался на верхний балкон, метался туда-сюда, протискивался к перилам и снимал, снимал… Химеры, аркбутаны, крыши и дали Парижа, ангел на углу правой башни, эта же башня в облаках, отражённых в луже… Довольно удачные фотографии, надо сказать…
В Киеве мы были в церкви лишь однажды. Проезжая на троллейбусе из Жулян, Некрасов позвал меня сойти. Зайдём, пригласил, в эту вот церковь, сегодня, кажется, есть служба.
Внутри было приятно и благостно, из прихожан почти никого, но много букетов цветов в банках, перед иконостасом. Мы постояли молча пару минут, потом я спросил, как насчёт свечек, может, поставим. Поставим, согласился Виктор Платонович и купил три штуки. Одну дал мне, а две зажёг сам…
В парижский собор Святого Александра Невского на улице Дарю он захаживал частенько.
Проходил поближе к хору. Стоишь и слушаешь стройное пение, приятное занятие, говорил Вика, а неразборчивое бормотание священника убаюкивает, когда не знаешь ни порядка службы, ни молитв.
Он, я думаю, не осеняя себя крестом, не хотел притворяться верующим. Но и равнодушным церковный обряд его не оставлял. Как он говорил, во всём этом есть что-то «значительное и необходимое, что-то обязывающее к чему-то».
Конечно, обстановка в церкви трогает душу, успокаивает, вздыхал В.П., но что поделаешь, если тебя воспитали неверующим и в церковь ты ходишь для других – на крестины, свадьбу или панихиду.
Я не слышал ни разу, чтобы он пренебрежительно, или с издёвкой, или просто с ухмылкой отозвался о верующих людях.
Но любил подразнить свою большую приятельницу, Наталью Михайловну Ниссен, верующую женщину. Будучи из генеральской семьи, из первой эмиграции, она надменно относилась к мелкому эмигрантскому люду. Славилась злым языком и мерзким нравом, была остроумна и хлебосольна.
Кроме божественного барда, сердцееда Саши Галича, из третьей эмиграции она любила лишь две семьи – Максимовых и нашу.
Мадам Ниссен была квартирной хозяйкой Максимовых, ей же принадлежало и помещение журнала «Континент».
Сохраняя вокруг себя всё русское, старые дворянские традиции, воспитанная в ненависти к большевизму, она видела в диссидентах чуть ли не продолжателей Белого дела. Резкая и холодная с окружающими, она сразу же прониклась приязнью к Максимовым и решила взять их под свою опеку. Её беспрекословно – а как же ещё! – поддерживал муж, деликатный и внимательный Александр Александрович Ниссен, которого, как понимаете, все называли Сан Саныч.
Таню Максимову она по-настоящему полюбила, но самого Максимова любить опасалась, так как Владимир Емельянович, не слишком поощряя опекуншу, держал её на некотором расстоянии.