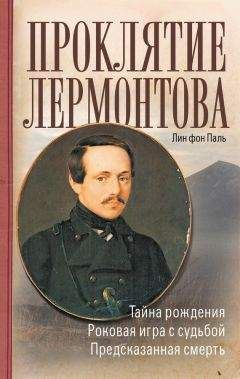По случаю его отъезда Карамзины устроили прощальный вечер. И на этом вечере Лермонтов внезапно заговорил о скорой смерти, которая его ждет. Висковатов считал, что разговоры о смерти были связаны с недавним посещением известной в столице гадалки Александры Филипповны Кирхгоф, которая в свое время предсказала Пушкину смерть от «белого человека». Лермонтов тоже ее посетил, больше ради смеха, и спросил, будет ли отставка и останется ли он в Петербурге. А гадалка ему сказала, что в Петербурге ему больше не бывать, той отставки, о которой мечтает, он не получит, а будет ему такая отставка, «после коей уж ни о чем просить не станешь». Тогда на предмет предсказания он сильно веселился, тем более что совсем недавно ему продлили отпуск, и он решил, что скоро дадут и отставку, но следом пришел этот приказ – покинуть столицу в 48 часов, и неожиданно он поверил словам гадалки – они предрекали смерть. Этот рассказ, который слышали все, кто был у Карамзиных, нередко связывают с самим настроением кружка – мистическим, и тем, что недавно поэт там читал начало своей повести «Штосс», так и оставшейся только началом. Однако мысли о смерти его действительно преследовали. И зная, как метко стреляют горцы, как славно они рубятся и как изменчива фортуна на войне – на что он мог надеяться?
Аким Шан-Гирей рассказывал: «Мы с ним сделали подробный пересмотр всем бумагам, выбрали несколько как напечатанных уже, так и еще не изданных и составили связку. „Когда, Бог даст, вернусь, – говорил он, – может, еще что-нибудь прибавится сюда, и мы хорошенько разберемся и посмотрим, что надо будет поместить в томик и что выбросить“. Бумаги эти я оставил у себя, остальные же, как ненужный хлам, мы бросили в ящик. Если бы знал, где упадешь, говорит пословица, – соломки бы подостлал; так и в этом случае: никогда не прощу себе, что весь этот хлам не отправил тогда же на кухню под плиту. Второго мая к восьми часам утра приехали мы в почтамт, откуда отправлялась московская мальпост (почтовая карета. – Авт.). У меня не было никакого предчувствия, но очень было тяжело на душе. Пока закладывали лошадей, Лермонтов давал мне различные поручения к В. А. Жуковскому и А. А. Краевскому, говорил довольно долго, но я ничего не слыхал. Когда он сел в карету, я немного опомнился и сказал ему: „Извини, Мишель, я ничего не понял, что ты говорил; если что нужно будет, напиши, я все исполню“. – „Какой ты еще дитя, – отвечал он. – Ничего, все перемелется – мука будет. Прощай, поцелуй ручки у бабушки и будь здоров“».
Аким за давностью лет ошибся: Лермонтов уехал из Петербурга 14 апреля в 8 часов утра и приехал в Москву 17 апреля в 7 часов вечера. В Москве на этот раз он пробыл недолго и 23 апреля отбыл на Кавказ. По дороге на Кавказ посетил в Туле свою тетку, встретил там выехавшего раньше Алексея Столыпина (Монго), в Туле они весело пообедали вместе со старым товарищем по школе Меринским, есть основания полагать, что заехали по дороге в орловское имение Миши Глебова – будущего секунданта. Глебов тоже собирается на Кавказ, тяжелую рану, полученную в прошлой экспедиции, он почти залечил. Думали, рука навсегда останется неподвижной, – ничего, кажется, обошлось.
В тех же числах и тоже на Кавказ отбывает из Петербурга князь Сергей Трубецкой, переведенный, как и Лермонтов, из гвардии в армию, сбежавший проститься с умирающим отцом, взятый в столице под стражу и отправленный с фельдъегерем, чтобы не удрал по дороге. На Кавказ собирается и молодой князь Васильчиков, которого в компании Лермонтова видел в Москве немецкий переводчик Фридрих Боденштедт. И, судя по тому, какими прозвищами награждал его Михаил Юрьевич и как едва не довел князя до полной обиды, это тот самый Васильчиков, с которым мы скоро встретимся, что бы там ни говорили казенные бумаги о его якобы пребывании в Тифлисе. И – о да! – там, на Кавказе, только что, 9 апреля, вышел в отставку майор Николай Мартынов, брат Михаила Мартынова, которого только что повидал Лермонтов, и очаровательных барышень Мартыновых, которым так нравится общество поэта. Что ж, вся компания в сборе. Пора поднимать занавес.
Орел или решка? Роковой поворот судьбы
Судьба Лермонтова вышла на финишную прямую. 9 мая Лермонтов и Столыпин уже в Ставрополе. Они явились к командованию и получили приписку к экспедиции против горцев. На другой день Лермонтов сообщает об этом в письмах 9 и 10 мая домой, бабушке, и Софье Карамзиной.
«Милая бабушка,
я сейчас приехал только в Ставрополь и пишу к вам; ехал я с Алексеем Аркадьевичем, и ужасно долго ехал, дорога была прескверная, теперь не знаю сам еще, куда поеду; кажется, прежде отправлюсь в крепость Шуру, где полк, а оттуда постараюсь на воды. Я, слава Богу, здоров и спокоен, лишь бы вы были так спокойны, как я: одного только и желаю; пожалуста, оставайтесь в Петербурге: и для вас, и для меня будет лучше во всех отношениях. Скажите Екиму Шангирею, что я ему не советую ехать в Америку, как он располагал, а уж лучше сюда на Кавказ. Оно и ближе, и гораздо веселее.
Я всё надеюсь, милая бабушка, что мне все-таки выйдет прощенье, и я могу выйти в отставку.
Прощайте, милая бабушка, целую ваши ручки и молю Бога, чтоб вы были здоровы и спокойны, и прошу вашего благословения. —
Остаюсь п<окорный> внук Лермонтов».
«Я только что приехал в Ставрополь, дорогая m-lle Софи, и отправляюсь в тот же день в экспедицию с Столыпиным Монго. Пожелайте мне: счастья и легкого ранения, это самое лучшее, что только можно мне пожелать. Надеюсь, что это письмо застанет вас еще в С.-Петербурге и что в тот момент, когда вы будете его читать, я буду штурмовать Черкей. Так как вы обладаете глубокими познаниями в географии, то я не предлагаю вам смотреть на карту, чтоб узнать, где это; но, чтобы помочь вашей памяти, скажу вам, что это находится между Каспийским и Черным морем, немного к югу от Москвы и немного к северу от Египта, а главное, довольно близко от Астрахани, которую вы так хорошо знаете.
Я не знаю, будет ли это продолжаться; но во время моего путешествия мной овладел демон поэзии, или – стихов. Я заполнил половину книжки, которую мне подарил Одоевский, что, вероятно, принесло мне счастье. Я дошел до того, что стал сочинять французские стихи, – о падение!..
Вы можете видеть из этого, какое благотворное влияние оказала на меня весна, чарующая пора, когда по уши тонешь в грязи, а цветов меньше всего. Итак, я уезжаю вечером; признаюсь вам, что я порядком устал от всех этих путешествий, которым, кажется, суждено вечно длиться. Я хотел написать еще кое-кому в Петербург, в том числе и г-же Смирновой, но не знаю, будет ли ей приятен этот дерзкий поступок, и поэтому воздерживаюсь. Если вы ответите мне, пишите по адресу: в Ставрополь, в штаб генерала Грабе, – я распорядился, чтобы мне пересылали письма. Прощайте; передайте, пожалуйста, всем вашим мое почтение; еще раз прощайте – будьте здоровы, счастливы и не забывайте меня.