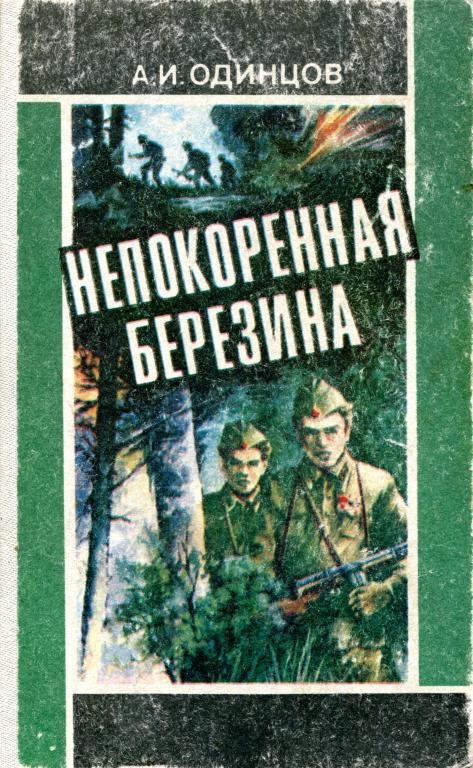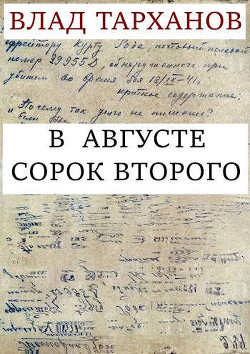на голову и за порог. А у крыльца, кажись, уже селяне собрались. Кто с узлом, кто с мешком иль корзиной, у кого на мутузке, веревке, домашняя скотина. Тут же, меж старыми и женщинами, — дети. Заплаканные глаза, испуганные лица, немые вопросы… У детей, как и у взрослых, в руках узелки или хотя бы что-то из покинутого дома: кружка, ведро, кувшин, одеяльце, платок, тряпичная кукла… В корзине одного мальца — серый котенок. Безвинными, непонимающими глазами смотрит он на мир, на людей, зачем-то собравшихся у ветхой, пахнущей сырым мхом избушки.
— Веди, дед Улей, выручай люд, — обратилась к хозяину избы седовласая женщина, опирающаяся на дубовую палку. — А не то беда. Всех порешит лихоимец.
— Значит, решились, — старик перекрестился. — Ну, слава богу. Еще надысь говорил: «Сбирайтесь. Не ноне, так завтра заявятся супостаты». Вон они как прут… Хрен им в дыхло!
— Ах, Улей, Улей… Да кому не жалко покидать гнездо родное. Тута вся жизнь прокатилась.
— Какое гнездо? Птице вон тоже не одно гнездо вить приходится. Главное — люд сохранить, детвору… А гнилушки энтие… — дед пнул ногой в трухлявый угол, — тьфу! Ешшо понастроим. Были б руки целы да голова на плечах.
Старик выдернул из изгороди палисадника увесистую палку, надвинул шапку на глаза и, не оглянувшись, зашагал околицей, уводящей к черному лесу. С севера на деревню наседала беспорядочная трескотня автоматов и лающие гортанные не то радостные, не то испуганные голоса иноземцев.
Старик, чуя все это, шел впереди своих гуменцев ходким шагом. Он ворчливо ругал тех, кто его не послушал, не ушел вчера еще, но подавал людям голос, полный доброты и надежды:
— Поспешай, бабоньки! Поспешай, родные… Деток на руки берите, кои устали… Нам лишь на верст пять от ирода оторваться. А там ищи нас, свищи… И оторвемся. А чему бы и нет. Они ведь не враз за нами попрут. У костров погреются, по дворам да погребам покель пошарят… А как же… Дело звестное. Так-то и хранцуз себя вел при Бонопартии…
Каратели в Гумнах задержались на несколько часов. По указанию бургомистра Станкевича они сожгли десяток избенок, расстреляли за связь с партизанами девять стариков и женщин да еще пятнадцатилетнего мальчонку… Сожгли и дом деда Улея, а его самого хотели расстрелять, но не нашли. Долговязый, очкастый обер-лейтенант в сопровождении трех эсэсовцев и начальника полиции обыскали всю деревню, близлежащие кустарники, баньки и сараи, но дед Улей исчез.
Местная полиция искала еще некоторых жителей деревни, чтобы расправиться с ними за помощь московским десантникам, но их также в деревне не оказалось.
Услышав трескотню автоматов, дед Улей, как его ни просили остановиться передохнуть, начисто запретил привалы:
— Терпите, бабоньки! Потерпите, детки. Чуток осталось. Малая малость… Минуем березняк, осинник, а там и привал. Нам бы только минуть болото.
— Это ты про какое, дед?
— Про Совье, кума, там, где журавли водились.
— Ой, матушки! В такое бучило! Утопнем с детворой.
— Бучило-намочило, эка заскулила, — обозлился дед. — Кто-то, может, и утопнет не знаючи, а коль с умом да понятием, и в целости перейдет.
— Рази дорогу знаешь?
— А то как же! Повел бы я туда такой колон… Дудки. Я еще третьего дни туда стопал да собственными ногами бучило смерил.
— Рази надоумил кто?
— Было кому. Помалкивай… Советская власть люд свой в беде не покидает.
— Ну, дай бог здоровьица тем людям.
Колонна, растянувшаяся на добрых триста метров, медленно втягивалась в хмыз, повалье, камыши… Все крепче и гуще пахло болотом. Дождь усилился. Облака опустились ниже и слились с седым туманом. Где-то в обломанных ольхах пугающе кричала сова. Дети жались к бабушкам, матерям, тихо хныкали:
— Бабушка! Бабулечка… На руки… на ручки меня… У меня так устали ножки.
— Цыц! Замолчи! Крепче за юбку держись.
— Ах, горюшко, горе!.. За что же людям страдание такое?
— Об этом знает только бог.
— И бог тож хорош. Нет бы накликать мор на супостатов.
— Накличет…
— Покель дождешься, и косточки сгниють.
— Семушка! Сема… К чему мне итить? Силушки больше нема. Оставь меня тута, под ольхою. Спокинь…
— Уймись, кому говорят! Не то по шее дам за срамоту такую. Идем!
— Ох, знают ли солдатики, сыночки наши, что мы тут переносим?
— Эй, проводник! Ну, скоро там конец этой топи?
— Скоро, бабоньки. Скоро, детки. Еще сто кочек, еще двести полкочек, три-четыре ручейка — и спасение, — отвечал старик, держась за кочку и передыхая по колено в рыжей жиже.
— А толк какой, коль перейдем? Все одно в холодной воде детвору погубим.
— Уймись! Торхв — он свое тепло имеет. Согреет и нас.
Пальба на какое-то время утихла, но затем снова возобновилась, кажется, все ближе, все плотнее. Справа и слева от людской цепи рвануло по мине. Одна шмякнулась в грязь, совсем близко от людей, но не разорвалась.
Треск валежника, булькота, брызги, приглушенная ругань, детский плач, слова, обращенные к богу, и все тот же бодрящий голос старого проводника:
— А ну, бабоньки! А ну, детки!..
А болото все не кончалось и не кончалось. Напротив, оно расхлестывалось все шире и неогляднее. Шумел под ветром сухой камыш, вздыхали выбившиеся из сил женщины, плакали на руках и посаженные на кочки дети. Но люди, спасаясь от фашистских пуль, молча, отдавая последние силы, преодолевали противное, но в эти минуты дававшее людям надежду, бучило. И вот, наконец, перед наступлением сумерек на горизонте показалась гривка небольшой рощи. Это был лесок на заветном небольшом сухом островке средь обширного болота, о котором знали в деревне немногие, в том числе и дед Улей. Он и привел на этот островок стариков, женщин и детей, чтобы избавить их от надругательств, пыток и смерти.
Батальон майора Краузе преследовал небольшие группы партизан второй день. Порой казалось, что недостаточно обученные военному делу партизаны уже окружены и вот-вот будут уничтожены или взяты в плен. Но каждый раз они ускользали из-под самого носа господина Краузе, нанося ощутимые потери его батальону. Уже было убито восемь и ранено четырнадцать солдат. Такое развитие событий становилось ему не по душе, и он решил за все свои неудачи отыграться на жителях белорусских деревень. Но и тут ему не повезло: большинство местных жителей заблаговременно ушли в труднодоступные леса и болота.
Майор Краузе знал, что самыми активными помощниками московских десантников и партизан были жители деревни Гумны. К ним он и решил предъявить особый счет. Но каково же было его удивление, когда он в этой деревушке не обнаружил почти никого… По доносу полицаев он знал, что крестьян из деревни увел старик по имени Улей.