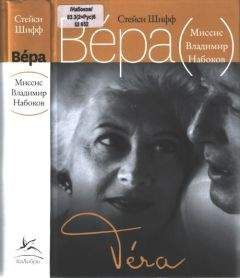3
Письма, которые Вера советовала мужу написать профессорам Келли и Перкинс, возымели отклик зимой 1943 года, когда Владимира снова пригласили в Уэлсли читать лекции по русской литературе для вольнослушателей. (По иронии судьбы, востребованность в нем возникла благодаря начавшим разрастаться в Америке просоветским симпатиям.) И снова должность отразила временность его статуса: в факультетской анкете, заполненной за мужа Верой в сентябре 1944 года, он значился как «преподаватель факультативного курса русской литературы»[108]. В качестве преподавателя филологии Набоков ездил дважды в неделю из Кембриджа в Уэлсли на занятия в служебном автомобиле военного образца. Педагогика потребовала от него больше времени, чем он рассчитывал, не потому, что он был в восторге от своих студентов, а по причине недовольства имеющимися учебными пособиями. Набокову невольно приходилось быть первопроходцем. «Я изобретаю свою собственную фонетику и правила, ибо такой уж я человек, что совершенно не умею пользоваться достижениями других, сколь бы значительны они ни были», — пояснял Набоков. Его «истинная жизнь» принадлежала не Уэлсли и даже не творчеству — тот, кто писал на английском и подписывался его именем, казался Владимиру существом неправдоподобным, «как будто на самом деле это не я сочиняю», — она принадлежала Музею сравнительной зоологии. Он до такой степени не ассоциировал себя с «профессором Набоковым», что, как признавался студенту, бравшему у него интервью, ему даже смешно было слышать, будто он читает лекции.
«Войны проходят, насекомые остаются!» — провозгласил Владимир в ту зиму, не скрывая своих приоритетов, в число которых как раз лекции в Уэлсли не слишком вписывались. К своей работе в музее он относился с исключительной серьезностью, распластывал, пришпиливал, надписывал образцы коллекций, выделяя своих любимых «голубянок» из семейства Lycaenidae, для которых придумал новейшую систематизацию. Он сохранял репутацию оригинала даже в таком крайне оригинальном месте, как МСЗ (Музей сравнительной зоологии), где, собственно, его считали всего лишь талантливым любителем, и не только из-за отсутствия соответствующего образования. Это ничуть не огорчало Владимира, который за двадцать лет до того писал матери из другого Кембриджа: «Люблю почудачить»#[109]. Он не менее охотно рассказывал о собственных дурачествах, чем его коллеги, один из которых утверждал, что набоковские приветствия в вестибюле звучат тем громче, чем менее ему знаком человек. В 1944 году у Набокова в музее появилась помощница, которая впоследствии стала его преданным другом: то была семнадцатилетняя Филис Смит, тогда первокурсница Симмонс-колледжа. Набоков с удовольствием рассказывал ей байки о своих американских ляпсусах, об оплошностях, на которые способен только тот, кто не знаком с местными нравами. Как будто постоянно спрашивая при этом: «Неужто так в Америке принято?» с подтекстом: «Вы согласны, что это глупо?» Прежде набоковские герои щедро наделялись таким их с Верой жизненным свойством, как исключительность, непохожесть на остальных. Теперь в первый и единственный раз в жизни оба старались соответствовать окружению.
Несмотря на бабочек, в мае Набоков завершил — а Вера закончила печатать — биографию Гоголя. Той весной Вера принялась, как некогда в Европе, рассылать рукопись мужа в журналы, что свидетельствует о ее большей уверенности в своем английском (или в муже, который только что получил первую из двух возможных гуггенхаймовских стипендий). К тому времени она, кроме того, наладила переписку мужа с издателями, главной фигурой среди которых был Лафлин. Прознав про интерес Набоковых к американскому Западу, Лафлин, человек независимый и богатый, пригласил их провести лето у себя на лыжной базе в Альте, в штате Юта. Этот отпуск укрепил здоровье Набоковых, хотя погодой Вера была разочарована; казалось, студеный ветер не переставая задувал в каньон Уосатч. (Для человека, рожденного в Санкт-Петербурге, Вера оказалась необыкновенно чувствительной к холоду. Набоков был выносливей, однако он не преминул заметить, что климатические условия в Америке «не вполне нормальны».) Да и супруги Лафлины особой симпатии у Веры не вызывали; немудрено, что издателю тоже в основном запомнилась ее холодная любезность. В Альте Лафлину даже стало казаться, будто Вера опасается, что он сбивает ее мужа с пути истинного. Ее опасения не оправдались, хотя и были обоснованны: Вере явно не понравилось, что Владимир увлек хозяина с собой за редкими бабочками на вершину Лоун-Пик высотой в 13 000 футов. Преодолев восьмичасовое восхождение, оба едва не погибли при спуске, соскользнув вниз с крутого снежного склона к краю обрыва, где Набоков чуть было не лишился своего издателя. Их ждали на базе к четырем часам; в шесть Вера позвонила в полицейское управление; выехала полицейская машина. Через несколько часов шериф привез обоих скалолазов. Обошлось без сцен. Владимир держался так, будто его гораздо более заботит то, что Вера постоянно выигрывает у него в китайские шашки, которыми они очень увлекались в то лето.
Неожиданно для себя Набоков в июле завел нового приятеля; это случилось на горной дороге в окрестностях Альты. Оставив позади перегревшийся пикап, весь черный от пыли молодой человек окликнул Набокова, который к 1943 году уже научился не судить о человеке по внешнему виду. Молча окинув владельца пикапа сердитым взглядом, Набоков и не подумал замедлить шаг. Джон Дауни оказался не из тех, от кого просто отмахнуться, он атаковал нашего любителя чешуекрылых шквалом вопросов. Тыча сачком то вправо, то влево, Набоков на ходу устроил незнакомцу экзамен по латыни, прежде чем позволил себе убедиться, что этот семнадцатилетний юноша имеет с ним общее, в высшей степени редкостное увлечение. Лишь когда Дауни сдал экзамен на многоцветных летуний, Набоков сбавил шаг и остановился. «Владимир Набоков!» — сказал он и протянул руку. Через пару лет Вера и жена Дауни отправились вместе с мужьями в путешествие за бабочками; как раз накануне бывший водитель пикапа приступил к трудам на соискание степени магистра энтомологии. Вера, в свою очередь, устроила свое испытание. «Скажите, Норайн, — спросила она у миссис Дауни как-то во время пикника в окрестностях Солт-Лейк-Сити, — вашему мужу понятно то, чем занимается мой муж?» — «Безусловно, ведь он постоянно это читает», — ответила Норайн Дауни, имея в виду работы по чешуекрылым. «Это хорошо, потому что многие не понимают», — со вздохом произнесла Вера, имея в виду литературу.
То, что миссис Дауни истолковала вопрос на свой лад, вполне объяснимо. В Кембридже Набоков вернулся к волшебному миру микроскопа; Вера, даже если не одобряла, до поры не вмешивалась. Совсем недавно она печатала текст, где говорилось, что Гоголь стал великим художником, когда «… дал себе волю порезвиться на краю глубоко личной пропасти». Письма Набокова того времени усеяны жалобами, что трудно менять языки, что приходится сдерживать в себе Сирина, о неуклюжести продвижения в английском [110]. Занятия с бабочками, должно быть, желанны вдвойне: и как страсть, и как утешение — язык науки восхитительно постоянен. Однако это занятие требует полного поглощения. Позже Набоков признавал, что после работы в Музее сравнительной зоологии он уже никогда не подходил к микроскопу, «зная, что, если дотронусь, меня снова затянет в его светлый колодец». Сразу после Нового года Вера определила дальнейший распорядок жизни. 3 января 1944 года Владимир пишет Уилсону: «Вера имела со мной серьезный разговор в отношении моего романа. Неохотно вытянув его из-под моих бабочковых рукописей, я обнаружил две вещи, первое — что он хорош, и второе, что начальные примерно страниц двадцать можно перепечатывать и показывать». И обещал, что это будет сделано быстро, как и произошло: «Я (вернее, Вера) уже отпечатал десять страниц из „The Person from Porlock“[111]», — сообщил он через несколько дней. К середине месяца тридцать семь страниц рукописи романа, впоследствии озаглавленного «Bend Sinister»[112], были отосланы Уилсону.