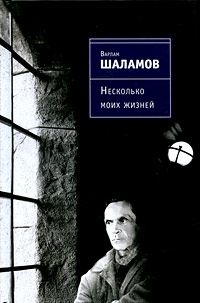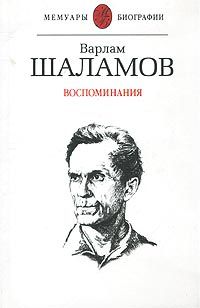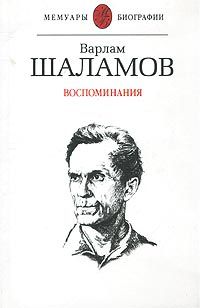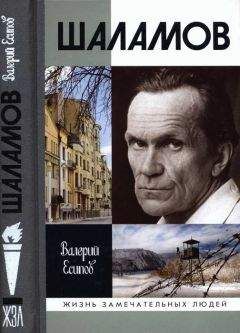В ответ я получил фотографию мою и ее с соответствующей надписью. Фотографию эту забрали у меня блатные из-за толстой пачки писем в бумажнике. Ничего, кроме писем, там не было, даже медной копейки, но было много фото. Я ожидал, что письма подбросят к стенке уборной на улице, как полагается по блатным законам. Но никаких писем никто не подбрасывал. Было это в Нексикане, когда нас собирали на пресловутый смертный этап в спецзону прииска Джелгала. Я сделал вывод, что письма уничтожены, очевидно, со злости, что не было денег. Это вполне в правилах блатной морали. Я просил у кого-то из блатарей, чтоб вернули хоть фото.
– Фото? Фото им самим нужно… Для сеансу…
Я понял и перестал надеяться. Я остался вовсе без фотографий. Такие фото имеют в лагере некоторое значение, небольшое, но некоторое все же имеют. И вот я кончил этот второй срок в 1951 году, работал фельдшером в Центральной больнице, и когда из Центральной больницы в 51-м и 52-м году уехать не удалось, – уволился и поступил в дорожное управление в Адыгалахе, на поселке Барагон, где и встретил смерть Сталина, кровавую амнистию Берии, когда были освобождены только блатари…
Героическими усилиями мне удалось уволиться, почти чудом я перелетел эту пропасть Оймякон – Якутск, семь часов на «Дугласе», а 16 лет [назад] этапом из Москвы с 12 января 1937 года.
На Ярославском вокзале в ноябре 1953 года я встретился с женой и установил: мой паспорт колымский с 35-й статьей, то есть проживание в поселках не свыше 10 тысяч человек, вовсе не обязывает проживать в Средней Азии. Можно и в Клину или в Калининской области, скажем в Конакове.
Ночевать мы приехали на квартиру к какой-то реабилитированной партийке с дореволюционным стажем, которая уже возвратилась, и ей дали квартиру на Песчаной. Номер дома и фамилию партийки не помню. За столом было много народу, и хозяйка провозгласила тост за мое здоровье, сказав, что рада моему возвращению в Москву, что она надеется, что я докажу государству свою революционную преданность, что она вспоминает, как она, когда была лагерницей, не щадя себя, работала в портняжной мастерской на помощь фронту.
Я сказал, что у меня другие мысли об обязанностях гражданских и что ночевать в доме таких лагерных работяг не буду.
Пришлось экстренно менять квартиру. Куда? Наталья Александровна Кастальская[369], дочь бывшего директора консерватории композитора Кастальского, предложила свою комнату в консерватории. Там мы и ночевали. Там только невероятный сор, пыль, которая не убиралась несколько месяцев, если не годы. И узкий ход к дивану среди стопок книг. На следующий день я выехал в Калинин, а оттуда в Конаково – устраиваться фельдшером по своей лагерной специальности, на которую у меня был официальный документ. В горздравотдел мне пришлось подать заявление.
Поскольку в фельдшерском деле я чувствовал себя весьма уверенно – образование, стаж лагерный, лагерный диплом, – я пытался найти работу именно по этой медицинской своей специальности. Поэтому я затратил много времени на поездку в Конаково, в райздравотдел, – переписка у меня цела, хотя с самого начала меня не оставляло ощущение, что я попал в железные колеса обыкновенной бюрократической вертушки.
Так как денег у меня было мало – поэту, фельдшеру, агенту снабжения равно надо питаться четыре раза в день, – то тощий кошелек подстегивал мою судьбу, заставляя то не доводить до конца дело, то не полагаться на обещания. Однако я еще держался, спал в вагонах, ждал решения. Надо мной висел дамоклов меч излишнего перерыва в стаже – тощую мою трудовую книжку, выданную на Колыме, разведочный, анкетный, охранительный метод угрожал подвергнуть ненужному вниманию «органов». Дело в том, что по тем временам разрешен был только двухнедельный перерыв в стаже – и для Дальнего Севера с прибавлением еще двух недель. И все. Между тем, или, вернее, именно поэтому администрация тянула ответ, ставя меня в безвыходное положение. Это тоже один из принципов, не столько бюрократический, сколько охранительно разведочный. Но я еще верил – волю я знал мало. В конаковском райздраве, где я хотел устроиться фельдшером, от меня потребовали характеристику с места работы, то есть из Магадана, из Сануправления. За свой счет я отправил телеграмму туда и через неделю получил ответ, разумеется, самого секретного характера – у нас все было секретно, – где разрешалось прочесть ответ автору телеграммы, то есть мне. Смысл ответа был тот, что лагерный фельдшерский документ действителен только на Дальнем Севере, только в управлении Дальстроя и что права лечить больных людей я не имею. Заведующий конаковским райздравотделом не то что относился ко мне чересчур подозрительно и как-нибудь партийно плохо – скорее безразлично. Он предложил мне поехать в Калинин и там объясниться по поводу своего рабочего стажа и так далее. Звонил ли он в Калинин, не знаю. Калининский горздрав нашел выход другой, юридически вполне обоснованный, поскольку у меня нет документа, а фельдшерские курсы лагерные могут быть приравнены лишь к неоконченному сестринскому техникуму. Мне и давали разрешение на работу с оплатой как медсестре в сельской местности с незаконченным образованием. По закону это выходило чуть более 200 рублей в месяц. Я даже не думал, что у нас в стране на 37-м году революции существуют такие официальные государственные ставки. Конечно, на двести рублей в месяц в 1954 году я жить не мог, фельдшерскую специальность приходилось бросить. В вагоне возвращался я из Калинина в Конаково, под постукивание колес я еще обдумывал варианты и возможности даже в таких условиях, перерыв в стаже ведь кончался. Я пришел в конаковский райздравотдел и выразил согласие на эту двухсотрублевую работу. Но вертушка только началась. Чтобы получить работу, нужна прописка. А чтобы прописаться – нужна работа. Это адский круг, хорошо знакомый всем, побывавшим в заключении, всем, хлебнувшим тюремной похлебки.
Я отправился на прием в местное НКВД – не помню уж фамилии начальника, как и во всех этих учреждениях, чрезвычайно любезного. Начальник отказал.
– Нет, нет, только не бывших заключенных. К тому же в Конакове уже больше десяти тысяч жителей. Без работы я не пропишу, найдете работу, придете ко мне, все будет решено.
Я вернулся в райздрав.
– Как пропишетесь, так и получите работу.
Железные стенки клетки, вертушки я ощутил очень хорошо. На медицинской специальности приходилось ставить крест. Конечно, во время этих скитаний я не тратил денег на дома колхозника или гостиницы. Вокзал, только вокзал, вагонная койка – вечное мое прибежище, транзитная арестантская кровать. В это время я об этом и не думал. Я и не знал, что существуют какие-то иные способы спать, кроме вокзала и вагона.
<В Туркмене> встретил я, к своему величайшему удивлению, замечательную богатейшую библиотеку. Библиотекарша была сторожем книжных сокровищ. Библиотека была загадкой. Культурный облик библиотекарши – а она работала тут более десяти лет, не давая права думать, что книги собраны ее трудами. Это была библиотека, составленная умелой и уверенной рукой из книг, купленных в букинистических магазинах. Здесь были классики, русские и иностранные, богатейшая мемуарная литература. Кони[370], Горбунов[371], Михайлов[372], Фигнер, Кропоткин.
Письма Чехова, изданные Марией Павловной, Ибсен, Андреев, Блок, прижизненное издание Державина.
В основном ее каталоге не было ничего лишнего, ничего случайного.
Я разгадал эту загадку.
Главным инженером этого торфопредприятия был в течение шести лет ссыльный Караев. По его настоянию все средства на книги тратились в Москве, в книжных магазинах. Никаких «перечислений», никакого принудительного ассортимента, где Бубеннов[373] и Бабаевский[374] – вроде классиков. Дорогу настоящей книге! Караев сам ездил с библиотекаршей в московские книжные магазины – езды до столицы от торфопредприятия пять часов, – сам паковал и отправлял драгоценные свои находки в тверскую глушь.
И только после его отъезда библиотека стала настоящим печатным хламом – он высылался через областной книготорг.
Караев сумел внушить библиотекарше понимание ценности тех книг, которые были им приобретены. Не всякому можно было пользоваться ими свободно. Но мне было можно – по тем же самым причинам, по которым в Адыгалахе было нельзя участвовать в читательской конференции.
Калининская область, Большая земля – не Колыма. С тридцать восьмого по пятьдесят третий год в России не было ни одной семьи, не затронутой арестами. У всех жителей торфяного поселка в лагерях и тюрьмах умерли родственники – их «преступность» была прекрасно известна жителям.
Я нашел в поселке самый сердечный, самый теплый, самый дружеский прием – такой, какого никогда не встречал на Колыме или в Москве.