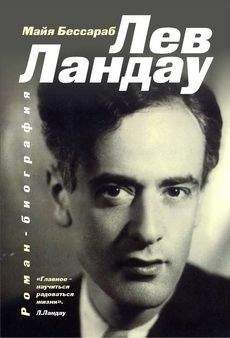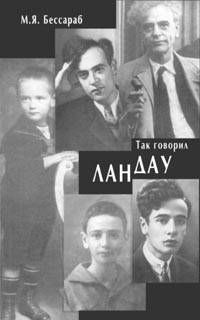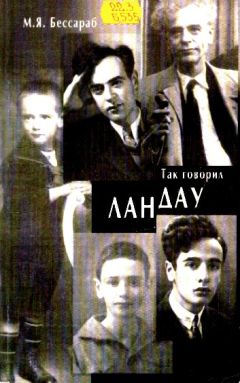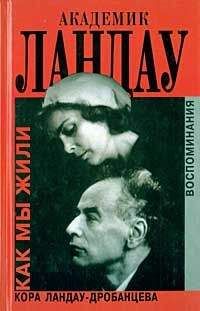И еще одна деталь — Дау никогда не наказывал сына. Желая удостовериться в этом, я спросила у Игоря, когда он уже стал взрослым:
— Тебя отец когда-нибудь наказывал?
— Что ты имеешь в виду? — не понял он.
Не наказывал, не принуждал. Предоставлял полную свободу. И вместе с тем мальчик рос в обстановке труда: с утра до вечера работал отец, не покладая рук трудилась мать. А в адрес тех, кто отлынивает от дел, раздавались реплики, от которых становилось не по себе:
— Г. лодырь и поэтому выбрал себе вшивое занятие, видимость деятельности. Вошь — паразит, и он паразит. Вроде вши.
Поскольку Дау много думал о счастье, он, естественно, часто говорил о том, что мешает людям быть счастливыми. По его мнению, в первую очередь это жадность, ревность и лень. Жадные люди его поражали, особенно старые.
— Хотя бы подумал о спасении души, — сказал он как-то.
— Это в каком смысле? — удивился собеседник.
— В прямом. Чтобы люди добрым словом вспомнили.
Но мало — не быть жадным. Не менее важно иметь чистую совесть. Это только кажется, что можно не обращать внимания на голос совести, заглушить его нельзя. Дау любил известные пушкинские строки: «Совесть — это когтистый зверь, скребущий сердце».
Так же мешает счастью и отравляет жизнь ревность. Ее Дау считал пережитком, и, если ему указывали на неисправимого ревнивца, пытался перевоспитать его.
Что же касается третьей, наиболее распространенной причины всяких бед и неприятностей — лени, тут Дау был беспощаден: искоренение лени входило в его педагогический метод.
— Рабочий день — понятие относительное. Я бы рекомендовал вам вычесть из этих восьми часов то время, что вы смотрели в окно, — посоветовал однажды Дау одному из своих аспирантов.
Другому он заявил:
— Неужели вам неизвестно, что человек произошел от обезьяны, его создал труд? Отсюда вытекает, что если вы перестанете работать, то у вас вырастет хвост и вы начнете лазить по деревьям.
Столь резкий тон, казалось бы, несовместим с воспитанностью, интеллигентностью. Дау была вообще свойственна категоричность суждений, мы уже не раз имели случай убедиться в этом. Менее всего он заботился о том впечатлении, которое производит на собеседника. Говорил то, что думал, — и все.
Алексей Алексеевич Абрикосов вспоминает:
«При жизни Дау еще не успели появиться экстрасенсы, сыроядцы, доморощенные йоги и тому подобное, хотя время от времени возникали разговоры о телепатии и телекинезе. Тут Дау был совершенно категоричен, а когда некоторые его друзья полагали, что в этом что-то есть, то он говорил: „Нет той глупости, в которую бы не поверил интеллигентный человек“. Мыслил он чрезвычайно конкретно, и ему было чуждо всякое философствование или туманные рассуждения о человеческой психике. Все это он называл „кисло-щенством“ (от выражения „профессор кислых щей“). Я помню его рассказ о том, как в возрасте двенадцати лет он поинтересовался сочинениями Канта, стоявшими на полке у его отца. „Я сразу же понял, что все это чушь собачья, и с тех пор не изменил своего мнения“ — таково было его заключение».
Музыковедов, литературоведов он не принимал всерьез, считая, что науки об искусстве — лженауки. У Дау было на тот счет любимое выражение: «А, это — обман трудящихся!» Чудачество, мальчишество, но переубедить его было невозможно.
Однажды в Институт физических проблем зашел солидный мужчина средних лет. Он сказал, что хочет поговорить с Ландау. Его проводили в комнату теоретиков. Во время разговора Ландау с незнакомцем в комнату несколько раз заглядывали физики. Дау что-то объяснял собеседнику, а тот делал записи в блокноте. Наконец Дау вежливо проводил его.
— Кто это был? — спросил один из друзей Льва Давидовича.
— Писатель Леонид Леонов.
— Зачем он приходил?
— Он хотел выяснить, где граница между веществом и антивеществом. По его мнению, такая граница существует.
— Что же ты ему ответил?
— Я ответил уклончиво, — рассмеялся Дау.
Я уже рассказывала, что не встречала человека, который помнил бы столько пословиц, частушек, прибауток, сколько Лев Давидович, не говоря уж о стихах. Среди них были наиболее любимые, пригодные чуть ли не на все случаи жизни.
Например, Кора разочарованно произносит:
— Тебе приглашение от Х. Но ты, конечно, не пойдешь?
— Не пойду.
— Почему?
— Скучно.
— Но если бы У. пригласили, он бы пополз.
— А я не такая, я — иная. Я вся из блесток и минут.
Поскольку Дау любил доводить до совершенства свои устные миниатюры, они легко запоминались.
Однажды он придумал классификацию разговоров. К первому, высшему, классу принадлежат «беседы», вызывающие у людей прилив мыслей. Это творческие разговоры, они придают ценность общению. Ко второму, среднему, классу относятся «пластинки», то есть разговоры, которые можно «прокручивать» сколько угодно раз. Для них особенно хороши «вечные» темы — о любви, о ревности, о взаимоотношениях супругов, о жадности, о лени, — словом, о жизни. Дау очень любил разговоры-«пластинки»: они удобны на отдыхе, в поезде, при знакомстве с женщинами.
Наконец, третий, низший, тип разговора — «шум». Это полное отсутствие какого бы то ни было смысла, только акустические колебания.
Дау считал, что никогда не стоит говорить с девушкой о физике. Во-первых, для нее это страшно утомительно, во-вторых, это заведет вас в тупик. Если она ничего не поймет, ей будет досадно, если поймет — еще хуже: вам уже никогда не удастся настроить отношения с ней на романтический лад, а у нее исчезнет восторженное преклонение пред вашей профессией. Лучше всего обратиться к старому проверенному средству — «пластинкам». Что может быть проще — завести разговор о кино, о популярных артистах, о живописи, о поэзии…
Придумал Дау и классификацию научных работ. Они подразделяются на пять классов: замечательные (заносятся в Золотую книгу человечества), очень хорошие, хорошие, терпимые и «патологические» (ошибочные, никчемные). Одно время обсуждался вопрос о том, чтобы устроить под председательством весьма известного британского астрофизика международный конгресс физиков — «патологов» на большом теплоходе, вывести его в открытое море и пустить ко дну. Шутки шутками, но ненависть к «патологам» была всерьез.
Можно себе представить возмущение Ландау, когда один из «патологов», взгромоздясь на трибуну, начал речь, полную бахвальства и надменности, словами: «Мы, ученые…»
— Ученым может быть пудель, — сказал Дау. — И человек, если его хорошенько проучат. А мы просто научные работники.