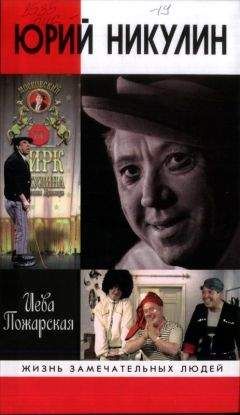Он вышел во двор. Был апрель, небо было звездным и каким-то близким-близким. Вовсю пахло весной! И воздух… Какой стоял воздух!!! Иван вздохнул. Глубоко вздохнул… Носом. Чуть попридержав, вытянув губы – выдохнул. «Э-эх, сладкий какой!..» – подумал Иван. И ему вдруг показалось, что воздух этот – его, Иванов! И что не принесенный он – воздух, какими-то ветрами, а выращенный им, его руками здесь, – на огороде. И вот теперь будет дышать им сколько влезет; и весну эту, что еще осталось, и все лето… До самой осени! И уж в этом-то никто его не осудит. Никто не запретит… не имеют права. А может, у кого-нибудь из соседей кончится и кто-нибудь из них придет к нему, скажет: – Так и так, мол, Иван Данилович, дышать совсем нечем, – помоги! Бога ради, займи!.. – И он, простой деревенский тракторист, просто так, безвозмездно даст воздуха какому-нибудь учителю… или… бухгалтеру… Да-а кому угодно!!! Валентину Вязьмикину, например. А то заладили – «дурак», да «дурак»… А человек он хороший – я работал с ним, знаю. Дал бы… Не задумываясь!., была бы только нужда.
Он достал «прибоину», закурил. Даже жалко стало воздух… Он разогнал дым рукой.
– Ничего… он-то поймет меня, своего хозяина, а вот они… – Он кивнул головой в сторону своего дома (оттуда уже доносилась трехрядка, сочувствуя страданиям тонкой рябины, кто-то глухо выстукивал каблуками плясовую, на кухне мужские голоса неровным строем выводили «…Из-за острова челны Стеньки Разина…» – свадьба рвалась на улицу, на простор). – Они никогда понять не смогут… кх-хы… вот, не смогут. Э-эх! Махну-ка я в следующий отпуск в Ташкент! Отведу посевную… и махну! Пусть без меня тут попробуют… А я посмотрю – как оно?! Дышаться-то будет!.. Своим-то воздухом?.. Дали бы отпуск… Только дали бы!
Он любил свою семью. Сильно любил. И крикливую жену свою Зойку, и трех дочерей, и единственного сына своего Витьку… Всех любил. Витьку, правда, чуть больше, он мужик – продолжение фамилии, значит…
А на пассажирском поезде он действительно никуда и никогда еще не ездил. Хозяйство, будь оно неладным… Он бросил окурок, тщательно втоптал его в изглоданный за день солнечными лучами снег сапогом… Направился в дом:
– Кх-хы, отпуск… вот, отпуск…
Он мечтал… И он поедет.
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОЕДЕТ!!!
Письмо это получил молодой, но бородатый искусствовед Сашка Наумов в октябре – ровно через месяц после «разведпоиска», как он сам называл свои творческие поездки по деревням разных областей с целью выявления народных умельцев, сумевших как-то сохранить творческие наследия своих предков. Писала поделочница глиняной мелкой игрушки-свистульки бабка Феня из Белгородской области.
Письмо это резко отличалось от тех, предыдущих, которые приходилось Сашке получать довольно часто. В тех чаще речь шла – о «помоги», о «выручи», о «посмотри»… – одним словом, от ходатайства до резины к «Запорожцу». Такие «весточки» Сашка и читал-то через строчку. Он ждал чего-то живого, настоящего, теплого. А от общения с бабкой Феней у него душа струной вытянулась. Отобрав для выставки несколько десятков ее игрушек, он строго наказал ей тогда написать ему в Москву, во что сам, по чести, не верил. «Стара-то я уж и грамоты не разумею», – ответила она. «А вы диктуйте внуку – он у вас ученый – в пятый уже идет», – ответил тогда Сашка. И все же не верил.
Сам-то по приезде в Москву написал ей, а на ответ и мысль не наводила. А тут – на тебе – письмо от самой бабки Фени. Аккуратненько вскрыл потертый толстенький конвертик (специальным ножичком), развернул три тетрадных листа, с двух сторон ровно исписанных детской рукой. Пробежал глазами по первой верхней строчке, затем по второй, потом дальше и дальше, да так и забыл про свое «святое» дело – трубку, которую, когда читал что-либо, не вынимал из зубов.
Оно не повествовало, это письмо, не кричало, а скорее пело, пело не поставленным голосом, не профессионально, но чисто сердцем.
И представилась Сашке та далекая деревня Кожля, о двух комнатушках домишко, который, как глухарь на току, растопырил крышу до самой земли и кажется вот-вот начнет кружиться и кланяться…
В том уголке, где больше света, сидит у стола бабка Феня и, подперев голову кулачками и глядя в никуда, диктует внуку своему, диктует, диктует, диктует:
– Добрый день и веселия час, Александр по отцу не ведаю покуда. А охота вас навеличать Святодельевичем, по то как дело ваше святое для меня и как я если ишо такие то не приведи господь, если и они так живут. У нас уже давно нет, как я. А я как в плену: ни по-городскому, ни по-деревенски. Стою как над обрывом. И денежный кризис в меня тоже весь исчез. Я послала вам игрушки свои доведенные до чести и жду, когда почтой вы пришлете мне какие деньги.
Ну, а внук-то мой уж шипко рад, что вы ему привет прислали. Шла я еще с бураков с глиной, а он меня все выглядывал, чтоб сообщить о вашем письме. – Ой бабушка, мне как привет тут друг мой прислал вот иди глянь. О, господи и что жа там за друг, да дядя Саша москвич. Ну слава Богу, надоел мне уже. Ну бабушка возьми и прочитай мне мой привет от друга моего. Ну я ему так говорю привет. Нет, не так. Ты вот возьми письмо в руки да ты не туда глядишь, а в потолок. Вот сюда гляди. Тогда мне будет хорошо. Читай уже что ли, а я буду слушать. Да я только большое печатанье могу тихонько-тихонько по буквочке, а это никак не раскладу по мыслям. Сам читай. Прочитал все и привет свой даже два раза. Ну ложись быстрей. Завтра мы писать будем. И сегодня это завтра и пишет он а чернила радостью отсвечивают так заметно аш. А ложился-то, когда велела, да взял гармошечку поломанную, вздумал свой любимый расказ о Павке. Кажись книжка, сказание о танкисте выучил на изусть, как воевал, как мост взял смелостью своею, и вот наигрывает как никак, а сам подпевает этот печальный расказ. Вы спрашиваете в меня дела. Вот такие в меня дела, что это вся карточная игра. А я карты в руках не держала. Вот теби и да что это будут дела. А еще дела да беда, что я одна. Не в кого нынче чего и спросить. Вот сидю все верчусь на стуле в холодной хате потому что тут свет есть, а там нет. Включателей нема. В лектрика може и есть да к нему нельзя подлезть. Неначем. И вот гляну на потолок, а матица мне говорит спроси ты лучше у окна. Окно отвечает в меня не спрашуют, а смотрят. Вон дверь. Я к двери, а та мне говорит есть на то школа, но от тебя закрыта – ты стара. Даже так сердита. Сядь вон как сидишь да сиди думай как твои дела. А дела все шагают, все ломают да в кучу глину складают. А картошки нечишены в миске стоят и плачут что я про них забыла и даже не помыла. И дела мои игрушки еще старое название им свистуны чи мои чи твои. Я их тыщами делала на печку сыпала и отправляла по городам. То в Курск, то в Рыльск, а то и на Белгород. А помнишь сказал как поехали со мной в Москву – а я испугалась и к окну. А с чем же я поеду. Вы почитай, дай вам господь приуважили гостинцем о колбаски и канцерве всякой. А я картошкой не совсем дурна к вам да и совись не пустит. Я сейчас от того кусочка отщиплю и под язык и все так долго про вас добром помню. А с вашими игрушками что задали морока приключилась. Вот слеплю поставлю, а она мне говоря нет не так поставь и начинай снова. Ох так и долго я их робила пока они в меня не заговорили. Хочь и не все а кое-что сказали хотя они и не живые а в печке свое смотрят и говорят со мной даже кричат нам тут хорошо жарко нам еще надо чтоб ты нас пожгла, а ты смотри пали нас получше. Вот Саша какие они в тебя сердитые. Им то надо знать што и печка плоха и дров то нет. все дрова так за глиной и проходила. Тут чуть снег привалил. И как стрекоза точь в точь осталась потому что без дров. А председатель молодой не наш в доме новом и сказал по то что мало в деревне робила и ищи дрова точь в точь как иди да попляши. Вот и пляшу как говорится шутя со шкафа на пол и обратно. А как потянуло холодом чуть так в той комнатушке на кухне угол так и задышал глиной прямо залеплю его, а он все одно на меня пых да пых холодом своим. Наверно закрою ее навовсе. А то уже тут ночью смерть меня разбудила.