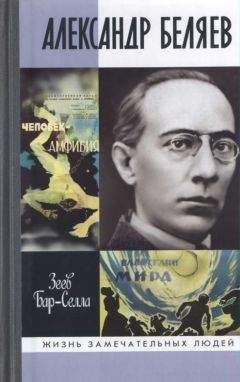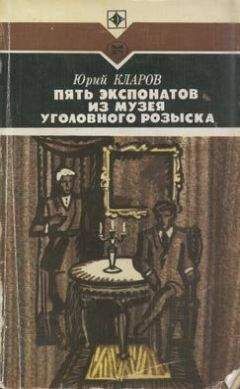Не натяжка ли все это? Нет — и доказательство тому дает нам сам «Последний человек из Атлантиды». Но не тот, о котором писал Беляев, а тот, которого Беляев читал, — Николая Толстого!
«…Так как властелин не мог рассчитывать на нашу личную военную силу, которой нам никогда не приходилось испытывать, то он изготовил молниеносные снаряды, извергающие огонь и удушливое пламя. Состав этот в большом количестве хранился в пещере одной горы, примыкающей к залежам материалов, заготовленных и добываемых поблизости.
Накануне дня, когда атланты, так стали звать нас в Европе, намеревались выступить в свой поход, один из миролюбцев решил воспрепятствовать этому ценою собственной жизни. Он, очевидно, не рассчитал силу взрыва, задумал уничтожить смертоносный состав и поджечь его. <…> Раздался оглушительный раскат грома, и яркое пламя метнулось к небу. Гора распалась. Море хлынуло на город и затопило побережье. После этого раздался новый взрыв сильнее первого. Земля потряслась, и океан поглотил Атлантиду со всеми ее городами и обитателями».
Рассказ Н. А. Толстого был напечатан в 1916 году — на третьем году войны, которую мы называем Первой мировой, а современники звали Великой, Европейской или германской… Но были и такие, кто отказывал ей даже в праве на звание войны и именовал ее «империалистической бойней», затеянной алчными капиталистами для нового передела мировых рынков. Те, кто требовал немедленного мира и призывал воткнуть штык в землю…
Только так и могли читать фантазию Николая Толстого современники… И Александр Беляев.
Но фантазия Беляева шла дальше: он знал, когда война закончится. А еще ему дано было увидеть продолжение: «миролюбцев», захвативших власть и взорвавших страну.
Так что «Последний человек из Атлантиды» — роман исторический. Только история эта не древняя, а самая недавняя — 1920 года, когда белая армия погрузилась на корабли и покинула обреченный полуостров. Затем пришли красные и затопили Крым кровью.
И теперь на далеком чужом берегу Акса-Гуам-Итца рассказывает европейским туземцам о канувшем в бездну золотом веке…
Позвольте — какой «золотой век»? Ведь Атлантида — это рабство, социальное неравенство…
Вдова Осипа Мандельштама вспомнила однажды, что в самом начале 1930-х муж сказал ей: «Если когда-нибудь был золотой век, это — девятнадцатый. Только мы не знали»[236].
Но, может быть, Беляев не ограничился иносказательным пересказом всем известных событий и оценкой их с точки зрения проигравших? Может быть, он хотел сказать что-то еще?
Рабы восстали, разгромлены, жрецы торжествуют… И в этот миг Атлантида раскалывается и тонет. И теперь победителей и побежденных ждет единая судьба — захлебнуться на дне.
Спустя 44 года Солженицын пошлет Союзу писателей РСФСР письмо:
«Да растопись завтра только льды одной Антарктики, и все мы превратимся в тонущее человечество, — и кому вы тогда будете тыкать в нос „классовую борьбу“?»
Глава пятнадцатая
ТРИУМФ ВОЛИ
В мае 1941 года, бросив взгляд на множество написанных романов, повестей, рассказов, пьес и сценариев, Александр Беляев признался: «Мне самому как-то больше всего нравится „Властелин мира“…»[237]
Больше всего, как правило, любят то, что тяжело досталось… А на долю «Властелина мира» выпала нелегкая судьба. Прежде всего — трудности с публикацией. В 1925–1926 годах Беляев сотрудничал всего с двумя журналами: «Жизнь и техника связи» (по месту службы) и «Всемирный следопыт». Других журналов, готовых печатать приключенцев и фантастов, ни в Москве, ни в Ленинграде не было. И всё, написанное Беляевым в эти годы — восемь повестей и рассказов, а также 15 статей, прошло через них. Лишь один рассказ — «Человек, который не спит» из вагнеровского цикла — впервые увидел свет не в журнале, а в авторском сборнике «Голова профессора Доуэля» (1926). Но в девятом номере «Всемирного следопыта» за 1926 год был напечатан отрывок из этого рассказа (под названием «Мир в стеклянном шаре»)… Да, только отрывок, да небольшой — всего на две страницы, но мимо журнала и этот рассказ не прошел!
А тут не рассказ — роман!
Конечно, жаловаться на невнимание со стороны редакции Беляев не мог — в 1925–1926 годах его произведения появились в половине всех номеров «Всемирного следопыта»!.. Хорошо, редактор считает, что Беляева в журнале слишком много. Ну, дай объявление, мол, с будущего — 1927 года журнал начинает печатать новый роман любимого писателя!
Но нет — ни романа, ни объявления!
И тогда Беляев отправился по знакомому пути — в газету. Причем в центральную! Не в «Правду», конечно, и не в «Известия» — они романов не печатали, а в самую популярную — «Гудок». И хотя ничего железнодорожного и паровозного в романе не было, газета роман взяла[238] — на своих условиях: публикация открылась сразу с середины. То, что этому предшествовало, пересказали скороговоркой. Внесли и кое-что свое — но об этом позже…
Печатных откликов на «гудковскую» публикацию не было, но роман был замечен. По крайней мере одним читателем…
В «Гудке» роман начинался со второй половины четвертой главы второй части — с репортерской заметки «Массовый психоз»:
«Вчера вечером в городе наблюдалось странное явление. В одиннадцать часов ночи в продолжении пяти минут у многих людей появилась навязчивая идея, вернее, навязчивый мотив известной немецкой песенки „Ах, мейн либер Августин“. У отдельных лиц, страдающих нервным расстройством, навязчивые идеи или мотивы бывали и раньше. Необъяснимой особенностью настоящего случая является его массовый характер.
Один из сотрудников нашей газеты сам оказался жертвой этого психоза. Вот как он описывает событие:
— Я сидел со своим приятелем, известным музыкальным критиком, в кафе. Критик, строгий ревнитель классической музыки, жаловался на падение музыкальных вкусов, на засорение музыкальных эстрад пошлыми джаз-бандами и фокстротами. С грустью говорил он о том, что все реже исполняют великих стариков: Бетховена, Моцарта, Баха… Я внимательно слушал его, кивая головой, — я сам поклонник классической музыки, — и вдруг с некоторым ужасом я заметил, что мысленно напеваю мотив пошленькой песенки — „Ах, мейн либер Августин“… — Что, если бы об этом узнал мой собеседник, — думал я, — с каким бы презрением он отвернулся от меня? Он продолжал говорить, но будто какая-то навязчивая мысль преследовала и его… От времени до времени он даже встряхивал головой, точно отгонял надоедливую муху. Недоумение было написано на его лице… Наконец критик замолчал и стал ложечкой отбивать по стакану такт, и я был поражен, что удары ложечки в точности соответствовали такту песенки, проносившейся в моей голове… У меня вдруг мелькнула неожиданная догадка, но я еще не решался высказать ее, продолжая с удивлением следить за стуком ложечки.